В это бесцветное, полинявшее под непосильным гнетом тяжеленных, точно гигантские обломки исполинских скал, свинцово-серых туч, безжалостно придавивших своим чудовищным прессом беспомощный город, утро редкие, зябнувшие в своих пальтишках, прохожие невольно ускоряли свой шаг, спеша проскользнуть побыстрее сквозь мглистую, промозглую неують. Дождь недавно закончился, истерично и торопливо отхлестав множеством мелких струй-пощечин унылые пепельные дома, словно в детском испуге перед непогодой поплотнее жавшиеся друг к другу. А потом гневный запал иссяк, и некогда полные неуемной энергии, тугие и яростные струи, враз обмякнув, вяло и безжизненно смешались с серой землей, превратив ее в вязкое, прожорливое, хищно чавкающее под ногами, месиво, грузно осев бесформенными лужами на асфальте. Алчный, пронизывающий сквозь любые одежды до костей мириадами острых сосулек, ветер, казалось, жаждал высосать из своих случайных жертв жалкие остатки тепла.
Невольно поежившись и тщетно закутавшись в свой франтоватый, нисколько не спасающий от северного ветра, шарф, я, повинуясь общему ритму, тоже ускорил шаг, почти пробежал по разодетому лужами в леопардовую шкуру перекрестку, провожаемый злорадным шелестом изламывающихся немыслимой дугой крон донельзя разгневанных деревьев, и торопливо юркнул в первый попавшийся двор, не столько в надежде сократить путь, сколько – чтобы хоть как-то спастись от хулигански настигающего меня ветра. Разбойник-ветер с досадой от упущенной жертвы что-то разгневано прогудел мне в спину в узкую щель между двумя плотно сдвинутыми почти впритык друг к другу соседними пятиэтажками, похожими, как близнецы.
Во дворе и впрямь царило безветрие, и я с облегчением перевел дух. Вот ведь странно, сколько не ходил по этой дороге, а здесь бывать как-то ни разу не приходилось. Хотя, если вдуматься, в этом как раз ничего странного: дворик уводил в сторону от привычно затверженного наизусть, как таблица умножения, до последней колдобины, маршрута, проверенного многолетним опытом, геометрически правильного и тщательно выверенного временной целесообразностью. Сколько раз я, равнодушно скользнув рассеянным взглядом по острому углу двух поблекших от времени близняшек, пролетал мимо, как всегда суетливо, торопясь в тщетной попытке наверстать все ускользающее от меня время, строго по кратчайшему пути, и ни разу ни полюбопытствовал, что же там, за этим углом.
Я с интересом осмотрел дворик, в котором, по большому счету, не было абсолютно ничего примечательного: обрамленный по периметру четырьмя клонированными пятиэтажками, расположенными строго симметрично друг другу, он представлял собой стандартный и оттого безликий типовой дворик, коих было предостаточно в городе. Даже продовольственный магазин, приютившийся в торце одной из пятиэтажек, и тот был расположен на привычном глазу месте. Типовая застройка была настоящим бедствием этого города, да и многих подобных ему городов, торопливо слепленных во второй половине минувшего столетия, начисто отбивая охоту к бесцельным прогулкам. Зачем ходить куда-то, чтобы увидеть все то же, что можно наблюдать из распахнутого окна собственной квартирки? Возможно, в этом однообразии был свой тайный расчет, свой смысл, зачем отвлекать граждан изысками городской архитектуры, с тем, чтобы они впоследствии тратили на созерцание этих красот свое драгоценное время.
Я уже хотел было равнодушно отвернуться, но тут в самом дальнем углу двора, у одного из угловых подъездов, вдруг заметил поразившую меня картину: одинокую женщину, неподвижно застывшую в тишине у простенького гроба, установленного на двух стареньких, колченогих табуретках. Не было ни оркестра с подобающим в таких случаях реквиемом Шопена, не было ни окружающей толпы родственников или даже просто зевак, и от этого фигурка женщины казалась еще более беспомощной и трогательно одинокой в своем горе.
Я подошел ближе. Лицо усопшего казалось каким-то невероятно живым, поражало своим спокойствием и безмятежностью, бледность только придавала дополнительную выразительность его, в общем-то, при жизни ничем не примечательным чертам, а шевелящиеся на ветру упрямые локоны на его лбу и чуть поднятые кверху уголки губ, точно в неком подобии улыбки, и вовсе делали картину какой-то неестественно гротескной. Казалось, что вот-вот и веки его дрогнут, он откроет глаза, удивленно оглядываясь по сторонам, не понимая, что же он забыл в этом неуютном гробу, словно старый актер, склеротично перепутавший роль.
Вблизи женщина, окаменело застывшая с правой стороны гроба, цепко обхватив своими руками скрещенные на груди руки покойного, поражала еще больше. Ее резной, точеный профиль был исполнен столь неуместными здесь красотой и достоинством. Бездонные, выразительные глаза, полные внутреннего страдания, ни на секунду не отрывались от лица покойного, губы ее все время беззвучно шевелились: то ли она шептала молитвы, то ли пыталась разом досказать усопшему все недосказанное ранее.
– Эх, голубушка, опоздала! – внезапно раздался чей-то сожалеющий возглас за моей спиной.
Я вздрогнул и резко обернулся. Передо мной оказалась низенькая старушка из той породы, кого обычно называют божьими одуванчиками. Сколько себя помню, эта порода никогда не переводилась, тихо и незаметно обитая во дворах, будучи зачастую ровесницей самих этих дворов, их естественным приложением и неотъемлемым дополнением. Несмотря на свою неприметность, она всегда была в курсе всего происходящего в округе, ни во что не вмешиваясь и, удивительное дело, само ее присутствие во дворе обычно успокаивало, будто ее представительницы были этакими древними Берегинями, незаметно для глаза оберегающими покой. И внезапное исчезновение этих Берегинь было бы весьма заметным и, как правило, предвещало какую-то катастрофу, пусть не вселенского, так дворового масштаба.
– Дочь? – уточнил я для поддержания разговора, кивнув в сторону скорбящей женщины, поскольку она выглядела минимум лет на двадцать младше усопшего.
– Что ты, милок, – огорошила меня старушка, взмахнув рукой, – у Митрича и детей-то никогда не было, царствие ему небесное.
Она торопливо перекрестилась, невольно взглянула на застывшую женщину и продолжала:
– Не дочь, любушка его заветная, мечта всей его жизни.
Я вновь с интересом взглянул на женщину и только теперь заметил застывший поодаль траурный катафалк, подле которого нервно курили несколько мужчин с помятыми лицами. Один из них нерешительно подошел к женщине и что-то проговорил, но она и бровью не повела, нисколько не изменив своей позы. Помявшись, мужчина отошел от нее, закурив очередную сигарету.
– Почитай, третий час так стоит, горемычная! – вздохнула старушка, еще раз перекрестившись. – Да, не дала судьбинушка счастья ни ей, ни Митричу.
Увидев мой неподдельный интерес и обрадовавшись долгожданному слушателю, она потащила меня на сизую неуютную лавочку, стоящую чуть поодаль. Мне же так захотелось услышать эту историю, что ради этого я был пожертвовать уже порядком волглыми в такую погоду джинсами, немедленно впитавшими всю сырость лавочки.
– Марфой меня зовут, мил человек, – наконец представилась старушка и, пропустив мимо ушей мои дежурные восклицания в ответ, продолжала: – Я ведь соседка Митрича. Уж и сама запамятовала, сколько лет нос к носу, да через стеночку! Ох, и чудной Митрич был, прости, Господи! Хоть и правильный. Он ведь был из энтих, энтелехентов, что ль, а работал ночным сторожем, чудно, правда?
– А скажите, почему у гроба только эта женщина, – спросил я, закуривая сигарету. – Где его друзья?
– Так нету у него друзей-то… – начала, было, Марфа, осеклась, покосившись в сторону гроба, вздохнув и перекрестившись. – Ох, ты, Господи, никак не привыкну: о Митриче-то, да в прошлом! Не было у него друзей. Он, давно уже всех сторонился. Не любил Митрич общаться. Он и сторожем-то стал, чтоб никого не видать. Замкнут он был больно, гостей не любил и не звал. А только как-то раз прихватило сердечко, а валидол-то, как на грех, кончился, ну, стучусь к нему, он открыл, сразу все понял по моему виду и побег за валидолом. Ну, я в квартиру, а там – батюшки-святы! По всей квартире развешены портреты вон энтой голубушки! Много – не сосчитать даже! А я-то думала раньше, с кем он там разговаривает, сам с собою, что ль, а тут вона какое дело! Стеночки-то в нашем доме тонкие, Митрич мужик хоть и с виду не очень видный, да правильный, непьющий, негулящий, нехулиганистый, да и я была тогда еще видная, – она невольно приосанилась, продолжив: – Интересовалась я им, а он так ноль внимания. Ну, бывало, и слушаю, о чем он там шепчется, прости, Господи, душу грешную! И диву даешься: Митрич, на людях-то скупой на слова, даже «здрастьте» из него клещами надо было вытягивать, а тут, с портретами, мог часами беседовать! И каждый день беседовал, и молился за нее, и удачи ей желал каждое утро. Любил он ее очень сильно, так любил, что все остальное ему было без интереса. Ах, кабы меня хоть кто хоть разочек в жизни так любил! – она мечтательно закрыла глаза.
– А как они познакомились? – наконец удалось вклиниться в монолог старухи.
– Так откуда ж мне знать, голубчик? – удивилась Марфа. – Это было еще до того, как он вселился в наш дом. Погодь, дай Бог памяти, это было в аккурат, когда столицу запучило.
– Что, простите? – искренне подивился я, поперхнувшись дымом от сигареты.
– Ну, помнишь, милок, когда Мишку пятнистого-то в Крыму держали, а по телевизору все одни балеты крутили, а потом, когда вернулся пятнистый, долго говорили, мол, пучит, пучит…
– Путч, что ли? – для верности переспросил я, быстренько прикинув в уме, что это было 23 года назад.
– Во-во, ну я же и говорю, пуч, - обрадовалась Марфа.
– И что же, так и жил все это время? – поразился я.
– А так и жил, мил человек, – кивнула Марфа, – так и жил.
Тем временем один из мужчин у катафалка, не выдержав, вновь подошел к женщине, но она опять его проигнорировала. Но только он попытался взять ее под локоток, как она мигом взорвалась, гневно сверкнув своими бездонными глазищами, прокричав, что заплатит им за целый день работы, но только сейчас пусть они оставят ее в покое. Не ожидавший этого взрыва мужчина мигом отлетел к своим приятелям, ошарашено покачивая головой и что-то чуть слышно бормоча им, видимо про того, что у клиентки совсем съехала «крыша», что день решительно незаладился и извечный распорядок ритуала безнадежно нарушен. Женщина же вновь вернулась в прежнюю свою позу и продолжила беззвучный разговор – теперь-то я отлично понимал, что это был именно разговор, а не молитва.
– И что же было дальше? – уже нетерпеливо спросил я старушку, уж больно хотелось услышать конец этой истории.
– А дальше, милок, намедни встречаю я Митрича, да такого, каким никогда еще его не видела! Отбросил он свою неразлучную палку, нет, она и раньше-то ему нужна была не для ходьбы, а так, хулиганов отпугивать, иль не в меру любопытных. Гляжу: батюшки-святы, Митрич-то в костюме, отутюженный, отглаженный, одеколоном за версту, да не нашим, тройным, а заграничным! А на лице – впервые за все энти годы – улыбка! Это у Митрича-то – улыбка, да я б скорей поверила, что медведь умеет улыбаться! Ну, я так и села на вот эту же лавочку – вот это да, батюшки-святы, чудеса, да и только! А в руках у него большущий такой букетище красных роз! Я даже глазам своим не поверила, спрашиваю: «Митрич, ты?». А он как засмеется: «Да я это, Марфуша!». И – хвать меня в охапку, так сдавил, леший, что я чуть Богу душу не отдала. Закружил, а потом поставил на землю и говорит, мол, его любимая, наконец, прилетает к нему, что все не зря, что он счастлив и теперь заживет всем на зависть, на полную катушку, закончились, мол, годы сна-ожидания. И – что меня пригласит на свадьбу, каково, а? Ну, я ахнула, что у него в квартире-то, поди, мужицкий кавардак, что надо бы прибраться к приезду невесты. Взяла швабру, тряпку, и ну за дело, через несколько часов все блестело, вот, что такое женская-то рука!
– А дальше? Что было дальше? – подгонял я, плененный этой историей.
– А дальше, тяжко-то и вспоминать, прости, Господи, – горестно вздохнула старуха. – Когда Митрич уж наряжался в аэропорт, чтоб встретить, как полагается, раздался звонок в дверь. На пороге стояла она, голубушка, смущенная донельзя, слова не могла вымолвить. Уж не знаю, чего там в дороге произошло, может, самолет прилетел раньше, может, не утерпела, да взяла билет на другой самолет. Ну, Митрич, как ее увидел, застыл, как столб, потом опомнился, схватил букетище и опрометью кинулся к ней, на лету перевернув вазу, испоганив пол, который я только выдраила. Долетел, сграбастал ее в охапку, обнял изо всех сил. Заметил, милок, глаза у голубушки? Как магниты. Так и Митрич, обнял и все не мог оторваться от ее глаз, неуклюже мычал что-то, как медведь, ошалевший от счастья, вылезший из своей берлоги. Знаешь, милок, когда люди очень любят друг друга, они целуются глазами, – Марфа опять мечтательно прикрыла глаза, вздохнула и продолжала: – Это был самый долгий поцелуй глазами на моей памяти! А потом Митрич вдруг внезапно захрипел, его как-то повело вбок, он обмяк и навалился на голубушку. Если бы не объятья, он бы рухнул на пол. Голубушка растерялась, не поняла еще, что произошло. Ну, я сразу смекнула, подлетела к ним. Положили мы его на диван, а он уж кончился, бедняга, – старушка, наконец, зарыдала в голос, раскачиваясь из стороны в сторону.
Я дал ей выплакаться, вздохнул и протянул:
– Значит, он умер от счастья.
– Вот ведь жалость-то какая, все эти годы он ждал энтого счастья, и не успел его отведать толком. Опоздала, голубушка, опоздала! Горе-то какое, горе, – продолжала всхлипывать старушка.
Тут стоящая неподвижно женщина вдруг покачнулась и рухнула на гроб. Мы с Марфой наперегонки кинулись к ней, подхватив под руки обмякшее, отяжелевшее тело, оттащили ее на скамеечку, на которой только что сидели сами. Пригляделись: слава Богу, дышит, просто обморок.
Грузчики у катафалка повеселели: теперь ничто не могло помешать им завершить этот этап привычного ритуала и затащить гроб в прожорливые недра зловещей машины. Они отработанными движениями проворно подхватили гроб и мигом запихнули его внутрь, остановившись и вопросительно взирая на нас, что, мол, делать дальше.
– Ну, бывай здоров, мил человек, – решительно заговорила Марфа, – а нам пора ехать. Голубушке одной не справиться, вишь, вон как прихватило. Да и мне грех не проводить в последний путь хорошего человека, которого я знала много лет. Царствие ему небесное, чистая была душа, Господи, – она в очередной раз размашисто перекрестилась. – Я бы в любом случае проводила в последний путь, да вот с тобой тут поговорила, чтобы дать время голубушке побыть с ним наедине. В последний раз побыть, – она вздохнула, бережно подхватила еще не пришедшую в себя женщину и довела ее до катафалка.
Им помогли усесться в машину, и катафалк медленно тронулся через двор, разбрызгивая лужи, в изобилии скопившиеся в колдобинах старенькой дороги. «А погода-то под стать случаю, словно, скорбит по Митричу», – подумал я, смотря им вослед, сидя на лавочке, затягиваясь очередной сигаретой.

















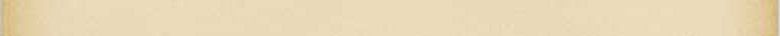

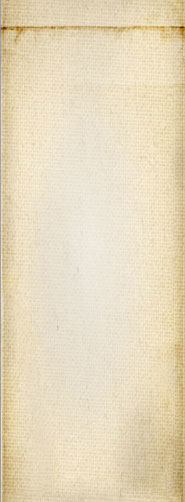

Новые комментарии