











Памяти моего прадеда
Спиридона Эммануиловича Валсамаки
посвящается
Наконец-то пришла пора бархатно-мягкой, молодой крымской осени. Стояли светлые удивительные погоды, и, казалось, лето ещё не кончилось, не отцвело, не отзвенело – оно просто слегка остепенилось, стало нежнее, ласковее: поостыло пекло, в природе воцарился смиренный покой. Слепящий яркий свет склонённого солнца лился на горы, на гладкое дрёмное море, плавился в туманных сияющих далях, но уже не дрожал в знойных лучах, а на деревьях ещё не торжествовала предзимняя осенняя охра вперемешку с живучей летней зеленью. Утро Воздвижения Креста Господня выдалось особенно чистым и умиротворённым – ни ветра не случилось в этот благословенный день, ни хмурых сизых туч на всём высоченном куполе небосклона.
По церковным праздникам, – так было заведено издавна, и порядок сей оставался незыблем, – дед Спиридон как-то по-особому, можно сказать, ритуально готовился к бритью: из самшитового футлярчика он извлекал бритву, долго и тщательно вострил её на оселке, выводил сверкающее закалённой сталью жало. Затем перед окном усаживался на табурет, наступал ногой на один конец широкого кожаного ремня, сохранённого ещё с военных времён и отшлифованного за долгие годы с тыльной стороны до блестяще-лаковой черноты, одной рукой натягивал его и ловкими, заученными взмахами другой руки несколько минут старательно правил лезвие. А в это время на плите в большом медном тазу грелась вода. После бритья, фыркая и разбрызгивая воду, он с удовольствием мылся, обтирался полотенцем, надевал свежее бельё, доставал из шкафа шкатулочку с боевыми наградами, неспешно одевался, правильно расправляя под широким ремнём складки своей военной гимнастёрочки, времён почти полувековой давности, затем из-под мохнатых бровей строго рассматривал себя в зеркале со всех позиций, тщательно причёсывал волнистые с густой пегой проседью волосы, и только тогда, перекрестившись на образа, усаживался на своё законное место в переднем углу у большого семейного стола под иконостасом. Николай-чудотворец добрым взглядом сверху молча озирал многочисленное семейство и троеперстием благословлял праздничную семейную идиллию.
Бабушка Ефимия к тому времени уже заканчивала накрывать на стол. На большом круглом блюде с пылу, с жару красовались горячие душистые чебуреки, а рядом – саламис с кефалью, вкусно пахнущий кафтедес и зелёные салаты. В центре стола, в старинной расписной вазе зелёного фаянса, которую она зорко берегла со дня замужества и которая досталась ей по наследству ещё от её прабабушки, стоял роскошный букет красных и белых роз, выращенных тут же, под окнами родового дома.
А напротив, у другого конца стола, на коленях у невестки Софьи сидел другой Николай – младшенький внучёк, краснощёкий бутуз неполных двух лет с круглыми глазками цвета черной смородины. Он родился, отворяя новый век, рано утром первого января тысяча девятисотого года. Вцепившись пухлыми розовыми пальчиками в плод, внук обгрызал первыми зубками спелый персик, обсасывал его, и янтарный сок струился по ручкам до самых локтей, капал ему на грудь и даже стекал на праздничный фартук матери. Старшенькие внуки, Спирька да Лёлька, сидели рядышком и спорили меж собой, кто быстрее и кто больше съест чебуреков.
– Я самый синый, я сех абаганю, – стращал старшую сестру Спирька, – и дед миня васьмёт на ибалку. Вот увидис! Я мого ибы памаю!..
– Эй, погоди, погоди… Давай на обгонки! – соглашалась на спор Лёлька, перекладывая с руки в руку горячий чебурек.
У бабушки Ефимии при этих задиристых обещаниях удачливого рыбачка довольная улыбка долго не сползала со смуглого лица.
– Вы ешьте, ешьте, а я ещё подложу горяченьких, – говорила она, сияя радостью.
После завтрака дед Спиридон, заметно припадая на правую ногу, но браво расправив плечи и по-солдатски напоказ выпятив колесом грудь, которую украшали два Георгиевских креста, под праздничный перезвон благовеста, неспешно шёл на утренний молебен в храм Николая Чудотворца. Чуток поотстав, за ним гуртом шествовали остальные домочадцы. По дороге дед Спиридон раскланивался с каждым встречным, поздравлял с праздничком, неспешно и вежливо справлялся о здравии…
А уже ближе к обеду, по давно заведённой традиции, все, кто защищали Балаклаву именно на день Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в составе четвёртой роты Императорского греческого батальона в самом начале военной кампании, и потом, когда Севастополь уже был обложен непрошеными пришельцами с трёх сторон, кто сражался на бастионах против французов, англичан да свирепых турок в красных фесках, каждую годовщину собирались в трактире «Утёс», под горой, над которой высилась старинная их родная крепость Чембало. По традиции собирались выпить чарку доброго вина или крепенькой кизлярки. Как и положено, поминали павших друзей, величали своих отцов-командиров, с кем бывали в боях, и не раз крещены смертельной опасностью. Солдаты той незабываемой трагедии, изрядно постаревшие, усохшие телом, вслух о нынешних страданиях вообще не говорили, хоть каждый был дырявлен пулями, рублен турецким ятаганом, истерзан осколками пушечных ядер: у одного – пустой рукав заткнут за пояс, у другого – деревянная нога от колена, но все они оставались благодарны судьбе за её благосклонность, за то, что выжили там, где многие их боевые друзья геройски или случайно сложили головы. Слегка захмелевших, повеселевших старых вояк, понятное дело, тянуло выговориться, припомнить тот самый первый неравный бой с англичанами в середине сентября пятьдесят четвёртого года, когда сто десять обыкновенных мужиков – смельчаками их назвали потом – без всякого ратного опыта, имея всего лишь четыре медных полупудовых мортиры, расщепали целую роту супостатов. Ещё больше пришлых захватчиков получили ранения и тяжкие увечья. К концу дня отчаянное сопротивление греков было всё ж сломлено, да и то по той лишь подлой причине, что закончились бомбы и патроны, в то время как с моря свыше десятка кораблей вели из пушек беглый огонь по осаждённой Балаклаве и по вершине горы с древней крепостью.
Всегдашняя напасть непременно преследует нас: война на пороге, а мы к ней почему-то по подлой закономерности оказались абсолютно не готовы. Арсеналы, видишь ли, оказались почти пусты… А будь всё иначе – за отечество геройски полегли бы все до единого в том бою, но не сдались. В злой безысходности пришлось смириться с позором обидного поражениея…
В живых от всего гарнизона осталось чуть более половины, и те были изранены в клочья. Измазанные грязью, залитые кровью, в коротких белых юбках и расшитых суконных куртках с широкими кожаными поясами, из-за которых устрашающе торчали кавалерийские пистолеты, тесаки и сабли – такими они предстали перед заморскими завоевателями. Англичане кумекали не долго: в плен никого брать не стали, всех распустили по домам. Оно и понятно: не было никакой возможности содержать пленников, лечить их, да ещё и охранять.
– Легко про войну слушать, – думал за столом дед Спиридон, – да тяжко её видеть. Не зря говорят: хороша война за горами, а как в ворота постучит – встречай беду горемычную. Сколько лет минуло, а она в памяти топчется и топчется, никуда не хочет уходить… Два его старших брата полегли в ту страшную годину, и старшего сынишку Константина, двенадцати лет от роду, осколком бомбы прямо во дворе родного дома насмерть поранило. Через час и отмучился сердешный... На следующий день схоронил его – сердце в беде занемело, лютостью переполнилось. Потом, уже на бастионах Севастополя, за свою истошную тоску, за кровь невинную родного дитяти, свирепо мстил врагу, счёта не вёл погубленным пришельцам, потчевал их пулей, рубил саблей, а не раз случалось – и в рукопашной схватке руками своими, как клещами кузнечными, душил до смертного хрипа, до мутной пены на посиневших губах, но ни разу не был утешен отмщением. Ни разу!.. Ненависть требовала всё новых и новых жертв… К недюжинной природной силе прибавилась не слепая отвага и ярость, а смекалка и расчёт, умение выживать в самые отчаянные минуты ближнего боя. Кто знает, быть может, если бы не смерть сына, не жажда мести, воевал бы он осмотрительнее да себя стремился поберечь… Впрочем, – замечал не раз, – самые осторожные всё ж погибали первыми. Однако и он дважды был поранен. Война – дело такое: первый раз пуля-дура в плечо навылет шарахнула, а вторая конфузия сурьёзнее случилась – осколок бомбы впился в ногу…
С той поры колено ноет к вечеру всё чаще, всё злее… Стара эта боль и уже привычна…
Там, на бастионах, а потом в госпитале, думалось ему, что война эта последняя и его увечье и муки тоже последние. Оказалось на поверку совсем всё не так. Но хуже было в тот день, когда его, истекающего кровью, доставили в госпиталь, забитый ранеными, и он, глядя на мучения тех солдатушек, у кого грудь пробита, а хуже – живот вспорот осколком, истово молился и благодарил Бога за покалеченную ногу. Однако, когда пришёл черёд лечь без хлороформа на операционный стол, – вынимать застрявший в живой плоти металл, – свет белый в глазах померк… От муки страшенной только мычал, стиснув зубы намертво. Сознание уходило несколько раз, но терпел эту пытку адову, обливаясь холодным липким потом. Кость потом постепенно срослась, зато походку скособочило навсегда. А может, не углядел хирург – остался где-то там малюсенький шматочек металла… На бастион уже не вернулся: пока выздоравливал, и война закончилась.
…Потом они затягивали песни: и старинные греческие, хранимые в каждом доме веками, и протяжные печальные – своих русских братьев, которые к ним пришли и засеялись в память более ста лет тому назад вместе со свободой… Они их слышали и запоминали на той самой войне, в часы затишья после вылазок, перестрелок и ужасных бомбардировок. Обычно такое случалось после захода солнца в тёплые южные вечера, когда и оружие уже почищено и солдаты накормлены. Здесь, в чужедальней стороне, вспоминались простым русским мужикам дорогие сердцу вольготные луга и пшеничные поля, звериные леса, смоленские или тверские деревеньки, любимые лица родных людей… И, как родниковая водица из-под земли, песня сама просилась из затворённой души на волюшку вольную. Её тут же охотно подхватывал один голос, потом другой, третий, и вот уже все дружно голосят:
Вниз по матушке по Во… по Волге, по широкому раздолью,
По широкому раздо… раздолью, поднималася погода.
Поднималася пого… погода, погодушка немалая…
Старые песни всегда кажутся лучше новых хотя бы уже потому, что их реже приходится слышать. В глазах зарождается особый блеск, и в такие моменты они ещё сильнее любили эту жизнь со всеми её утратами, болью и нечастыми радостями. А как можно её не любить, не испытывать чувства истинного счастья от того, что ты здоров, подвижен, хотя что ни день – смерть в жмурки с тобою играет, в затылок холодом дышит? Именно на войне, в нескончаемой дикой пляске смертей – то мгновенных, то долгих и мученических – особенно обостряется жажда жизни, и, как ни странно, она, эта обезображенная действительность, становится ещё желаннее, ещё дороже, когда ты обречённо изувечен, обрублен, ополовинен… Даже в часы отчаянного уныния или великого испытания её следует мудро понимать и принимать как дар Божий, но ни в коем разе – не наказанием, не лютой пыткой.
…Ближе к вечеру дед Спиридон слегка навеселе, неспешно шкандыбая, возвращался до дому к ужину. В увитой виноградом беседке, стол был застлан зелёной скатертью с белыми и жёлтыми цветами по краям. Посреди стола величаво красовалась уже другая ваза с роскошным букетом. Это бабушка Ефимия опять постаралась, это её заботами в саду так много места отвоевали цветы. Две любви, две прекрасных страсти ей достались на старость: внуков обхаживать да цветы взращивать. Весь день-деньской суетится, и пока хворь всяко-разная до конца не скрутила, всегда себе посильное дело находит, в порядке содержит и дом, и двор…
После лёгкого ужина, испив крепкого чая с кизиловым вареньем, чтоб в сон прежде срока не клонило, дед Спиридон уселся в саду под старым абрикосовым деревом в своё любимое плетёное кресло, прицепил на горбатый нос круглые окуляры и стал дочитывать «Анну Каренину».
Все эти господские страсти-мордасти только поначалу ему показались пустяковым делом, и сама Анна представлялась бабёнкой несурьёзной, даже ветреной. Семейное согласие он считал всего превыше. Знал точно: с порядка в семье начинается порядок всюду. Коль венчалась она и клялась перед Богом быть женой Каренина, чего уж тогда на другую сторону поглядывать? Разве не святотатством ли всё это называется? «Да я бы на месте Каренина, – думал он, кипя возмущением, – отволтузил разочек, мигом бы шёлковой стала. Как же Толстой не догадался таким макаром повернуть события? А ещё классиком называется». Но чем дальше читал, тем жальче было Анну, а самого Каренина, этого старого индюка с сухим сердцем, казённого и бездушного человека, всё больше начинал ненавидеть. И уже не господская развратность да слабость на переднее сладкое местечко избалованной барыньки виделась ему в измене мужу, а всесильное и прекрасное чувство глубоко несчастной женщины. Истерзанная этой самой страстью к своему ухажёру и любовью к сыну, каждый день душу пополам рвала. В безвыходность провалилась – вот беспощадная правда такой любви. Дед Спиридон никак не мог уразуметь: если сам Бог – это любовь и естественная жажда всякого сердца, то отчего же одновременно при этом она ещё может быть и блудом, и клятвопреступлением?
«Сложны бывают перекрёстки судеб, а часто они и погибельны… Когда двое так вот любят друг дружку, это не может кончиться хорошо. Ох, не может!.. Счастье, оно частенько по судьбе шлындает в обнимку с порухой… Коль макушкой счастья посчитать любовь, то сама любовь – это же обыкновенное воспаление души, неизлечимая болезнь. Хвороба, стало быть, настоящая… Всё такое же и со мною когда-то было… Да-а... Всему есть место в Царстве Божием – и святости, и беззаконию… Так мир устроен, – думал дед Спиридон. Помнится, прообнимались мы с Ефимией почти годок без малого, да и свадебку потом сыграли… Вот уж, кажись, целую вечность рядышком греемся голубками. В молодости, оно понятно, и любились сильнее, а чувства, однако, и поныне не истёрлись. Только с годами стали спокойнее, даже надёжнее… Всё худое, что было при нас в характерах, изжилось постепенно, а хорошее переняли друг от дружки. И, слава Богу, всё у нас обошлось без психозу, без ревности, да и без греха тоже… Человек нарождается на свет Божий, как и всякое живое существо, нежданно-негаданно. Ради чего он живёт? В чём его счастье? Чтобы поесть, одеться, обуться? Или ради какого-то душевного взаимопонимания? От встречного влечения душ и случается любовь – сердца вдруг вспыхивают и полыхают. Жить без любви никак нельзя! Когда каждый знает, что друг сердечный не покинет его никогда, это и есть любовь – спасение наше и защита. Даже собака, и та без любви человеческой горе мыкает…»
С той поры, как в Балаклаве открылась народная библиотека, пристрастился дед Спиридон к чтению, и теперь уже вошло в неизменную привычку такое барское безделье. Это как же так вышло, что век свой отмотал, а на старости лишь узнал, как много всего удивительного сокрыто в каждой книге? А самой первой из них, какую он прежде всего взял для прочтения, были «Севастопольские рассказы» графа Толстого, того самого сочинителя, который, оказывается, воевал где-то здесь с ним рядышком, защищал его родной Севастополь. Читал рассказы – и сам живо всё вспоминал, словно вновь возвернулся в свою давнину, и впечатления тех невыносимо трудных, полных страдания скорбных дней невольно воскрешались в разворошённой памяти, клокотали где-то под горлом…
– И очень хорошо, – подумалось ему тогда, – что эту правду он читает спустя много лет после войны. Читать такое в молодые-то годы да по свежей памяти – и сил бы никаких не хватило… Она, память, как свежая рана, могла открыться, и кровь хлынула бы фонтаном…
На «Севастопольских рассказах» остановиться уже не мог… Потом осилил «Воскресение», «Войну и мир», прочие книги и не переставал удивляться всему новому, прежде сокрытому за суетным простым бытом. Перед глазами вознесённой вверх души словно распахнулся огромный горизонт и увиделись неведомые прежде тайны мира. И как тут не поразиться великому труду писателя, его меткому глазу и въедливому знанию жизни русской? Помнится, первое время чтение давалось довольно трудно. По слогам медленно пережёвывая смысл, шевеля губами, прошёптывал каждое слово, прежде чем научился по кирпичику из слов составлять предложения. Теперь же книжную страницу без запинки наловчился глазами пробегать.
А недели три назад мог бы повидать самого графа Толстого. Мог бы, да не случилось…
В то злополучное утро старший внук Иван сманил деда на рыбалку. Позавтракав, на ялике вышли в море и свернули в сторону мыса Фиолент. На вёслах, конечно, сидел внук. Ему по весне семнадцатый год пошёл. Пропалённый горячим крымским солнцем долгого лета, раздетый до пояса, он орудовал вёслами с весёлым азартом, радуясь нарождающейся в теле молодой силушке. Дед устроился на корме и откровенно любовался внуком, его стройным юношеским телом, с уже бугрящимися мышцами груди и цепких рук, и тихо, по-доброму завидовал расцветающей красоте отрока. В душе царили умиротворённый покой и радость, да и во всей природе после августовского солнцепёка была та же божественная тишина. Глянцевые лазурные воды колыхались медленно, с дремотной ленцой. Вершина небесного купола сияла удивительно чистой синевой, но, опускаясь к горным склонам, к морской равнине, беспредельность постепенно теряла звонкую силу цвета, разбелено размазывалась толщей воздуха. Лишь там, далеко-далеко на юге, у самой кромки горизонта в сизоватой дымке, кочуя от турецких берегов, клубились узкою полоскою бледно-палевые облака. Солнышко ещё не торкнулось в полдень, но ласковыми лучами уже тепло целовало темя. В такие часы воздух необыкновенно прозрачен и чист, дали – особенно отчётливы, незатуманены.
«Куда ни кинь взгляд, – размышлял дед Спиридон, – везде красотища глаз ублажает, душу тешит, радует её, грешницу… В природе надобно черпать правила для своей поведенки. В ней, милой, хранится счастье наше… Кто сказал, что человек – венец творенья? Если он и венец, то, по всему видно – терновый… Плодится племя нелюдей. Уже и наука доказывает: будто бы не Бог сотворил Адама и Еву – обезьяна, видишь ли, прародительница наша. Ну, может, оно и верно: кто-то действительно произошёл от макаки или бабуина. Я таких людишек на своём веку встречал, и не раз…»
И снова его задумчивый взгляд остановился на Иване.
«Молодец, однако, парнишка! – восхитился внуком. – Настоящим мужиком становится. Не щадит себя, лень гонит прочь… Силёнку натрудил не по годам. Как есть, всю весну и лето помогал отцу своему котлован в скальнике выгрызать под винный погреб будущего дома. Потом обливался, но орудовал справно то кайлом, то ломом, а после тачкой вывозил щебень к откосу».
Помнится Манолис, видя старание сына, частенько предлагал:
– Отдохни, отдохни чуток. Эдак можно и пупок надорвать! Не беда, коль к зиме не управимся. Мы, сынок, и в старом доме перезимуем – не привыкать. Куда ж мы денемся?
К середине лета и котлован под погреб был готов, и фундамент камнем выложен. Теперь почти под потолок стены выведены из крымбальского известняка, завезённого подводами из каменоломен Инкермана. Просторный дом получится, всем комнат хватит.
… Наконец добрались до излюбленного места. Здесь, под высокими скалами, среди прибрежных огромных камней, растущих со дна, в шевелящихся зарослях дышащих водорослей, меж мерцающих солнечных бликов, всяческой морской живности всегда водилось с избытком. Изготовили удочки, теперь наживку только поспевай цеплять. И понеслась душа в рай – то барабулька, то бычок, а то и увесистая кефаль приманку шарахнет! Заглотит крючок, поймёт свою оплошность и начнёт беситься. Тут главное не оскандалиться – под сачок её, милую, подвести бы…
Часика эдак через два удочки смотали – всей рыбы не переловишь.
– Ты, дед, как хочешь, а я искупнусь, – сказал Иван, быстро скинул портки и голышом – бултых!..
Ну как тут стерпеть? Пока чужих глаз рядышком нет, надо, надо освежиться. Водичка, она завсегда и полечит, и усталость снимет…
К обеду приплыли в бухту, причалились. А тут, по дороге до дому, от дочки библиотекарши Стефании он и узнал, что не более часа тому назад, проездом на Севастополь в Балаклаве останавливался сам граф Толстой. Пока делали смену лошадей, заглядывал в библиотеку да с мамкой беседовал. А вечером, говорят, поездом к себе в имение уезжает, в губернию Тульскую.
– Ах, досада! Какая жалость!.. Видно, бес попутал да заманил меня на эту проклятую рыбалку! – сокрушался дед Спиридон и, опираясь на клюшку, необычно резво заковылял до дому.
– Почтовой каретой уже не поспею добраться, – думал он, – а если ещё и линейка занята, совсем дело дрянь. Надо срочно баркас снаряжать да поспешать в Севастополь.
Уж никак не хотелось упустить возможность хоть издали поглядеть на любимого писателя.
– Ефимушка! – выпалил он с порога, – Давай, милая, доставай из шкапа мою выходную одежонку поскорей, да шкатулочку с Георгиями не забудь. А я пока умоюсь – совсем запалился в спешке…
– Да ты никак куда-то навострился? А обедать когда? Тебя ждали…
– Навострился, навострился… В город мне надобно. Срочно!.. Без меня тут обедайте. Некогда мне… Совсем некогда!..
– А ты надолго, небось?
– Должно, к вечеру возвернусь.
…В Севастополе дед Спиридон был уже через полтора часа – Иван доставил на ботике.
Причалили в бухте, вблизи от вокзала. По пути, чтоб кишка на кишку с голодухи не ворчала, перекусили горячими аржаными пирогами – Софья сунула Ивану свёрток в холщовую суму.
На вокзале в такой час народу было мало, как-то даже пустынно. До отхода поезда на Москву оставалось ещё много времени, но у платформы уже стояли несколько вагонов без прицепленного паровоза. В каком-то из них, видимо, и поедет граф Толстой. Искать его здесь и сейчас – занятие пустое, - подумал дед Спиридон и неспешно направился в сторону от вокзала поискать какую-нибудь скамью в тени. Следов той войны уже не осталось, город отстроен почти заново, а вот скамеек почему-то не видно. Вот так у нас всегда: дворцы настроим, а о пустячках забываем…
Он ковылял, опираясь на клюшку, вдоль высокой металлической ограды, за которой белел двухэтажный дом с мансардой, с просторным балконом и ведущей к нему широкой лестницей. От ворот к дому тянулась дорожка, по которой высокий, господского вида человек, вёл старика, заросшего дремучей седой бородой. По всему было видно –
очень хворого, слабого... Похоже, это был его отец. Тот усадил старца на скамью в тени дерева и, заботливо склонившись, что-то негромко говорил, но что именно – не разобрать.
– Да и какое мне дело до их разговора? – подумал дед Спиридон и поковылял дальше. Только почему-то этот седобородый старик из головы не выходил. Странный он какой-то, нетутошный. Одет вроде бы по-крестьянски просто – в длинную полотняную, подпоясанную ремешком светлую рубаху деревенского тканья, в тёмные портки, а вот на голове – широкополая белая шляпа, каких наш брат, простой мужик, не научен носить. И обут почему-то в сапоги добротные, хромовые с высокими голенищами. В такую теплынь ноги можно быстро утомить, а хуже того – упарить.
Нет, не местный этот старик, явно не местный, – решил про себя дед Спиридон.
А шляпа да сапоги – так это ж для форсу. Нынче такое можно… Небось, когда ещё в крепостных числился, сапожки такие были ему не по чину… Наверняка, сынок по службе выдвинулся, вот и справил отцу добротную дорогую обувку…
Прогулявшись до конца улочки, дед Спиридон решил вернуться к вокзалу, попить чаю да внуку пряников купить. Проходя мимо того самого пристанционного садика, заметил, как с широкого балкона белого дома по каменной лестнице сошла строгого вида дама и громким визгливым голосом повелела бедному старику удалиться прочь. Сына рядом почему-то не оказалось.
– Это сад начальника дистанции, и здесь не место шататься всяким!.. – верещала она, брезгливо оглядывая пришельца.
Дед Спиридон не мешкая, свернул за ворота, поспешил помочь старику.
– Разве, дамочка, вы не видите: плохо ему! С вас нет никакой убыли, коль человек в тенёчке тишком посидит.
– Проходите, проходите, а не то сторожа позову, – ещё больше распалялась она.
Делать нечего. Дед Спиридон свободной рукой подхватил под локоть бородача, помог подняться со скамьи и, прихрамывая, повёл к воротам.
– Ну, что, браток, щедра барская милость? Вот так всегда и случается: и людей вокруг много, да человеков мало… Коль нет страдания за всех – уже и сердца в тебе нет… А чем сердце можно заменить? А нечем!.. Скажи ещё спасибо, что выпороть не повелела. В оные времена это скоро делалось: барин ножкой топнет – холопы на лавке распнут и согреют розгами. Сам, небось, порот не раз, знаешь, как это бывало…
Старик остановился, внимательно и молча вгляделся в собеседника. В его влажных, усталых глазах разрасталось весёлое сияние, и всё его болезненно-бледное лицо, с сизоватым носом в прожилках, сетью мелких морщинок в уголках глаз вдруг осветилось изнутри необыкновенно доброй улыбкой.
Бог ты мой! Да такие лица встречаются только у святителей, – подумал дед Спиридон.
– Пойдём, мил человек. Пособлю тебе чуток… Пойдём, тут недалече я присмотрел скамеечку в тенёчке. На пяти ногах мы с тобой борзо доскачем.
Как бы безоговорочно принимая Спиридона Эммануиловича за своего, за равного, бородатый старец тоже без всяких церемоний перешёл на дружеское «ты».
– А скажи-ка мне, старый солдат, за что ты стал дважды «победоносным», где отличиться пришлось – здесь, в Севастополе, или за наших болгарских братушек заступиться довелось?
– Да как сказать, за что? Может, за то, что француз мою спину так ни разу и не видел.
А в Балканскую войну я уж хром был да стар. Не позвали…
– Неразговорчив ты, однако. Не хвастун… Это хорошо!..
– А на что сейчас-то геройствовать? После войны всегда таких находится много. Слишком много… Гораздо больше, чем на самой войне. Плюнуть некуда – вокруг одни герои…
– Оно верно! Очень даже верно! Сам такое замечал не раз. И всё же, сделай милость, расскажи, как героем-то стал?
– Ну, какой же я герой, коль свой Севастополь супостату отдал!?
– Э-э-э, нет, брат, не скажи! Иные победы – хуже поражения оборачиваются. Был я сегодня в Балаклаве, там англичане дома богатые отстроили, набережную в камень одели. Хотели, видно, навсегда остаться, а пришлось-таки восвояси убраться. А сколько их тут полегло – тысячи головы сложили! А скольких холера выкосила! Наше поражение было обидным, но всё же коротким, а вот подвиг народа останется вечным. Русский солдат возвеличил Севастополь, навсегда дал ему имя города русской славы. Так-то вот!..
Дед Спиридон действительно не хотел ни войну вспоминать, ни о геройстве своём рассказывать. Для всякого солдата война никогда не кончается – обожжённое сердце страдания забыть не может.
И хотя шли они неторопко, дед Спиридон видел: собеседник быстро устал.
Наконец-то дошли до скамьи, присели отдохнуть. Старик выглядел каким-то обваренным. Он достал из кармана красивый платочек, отёр бисерные капельки пота со лба и под глазами, расправил указательным пальцем в обе стороны усы над увядшими губами.
«А старец мой и впрямь не прост, – подумал дед Спиридон. Платочек-то у него господский. Надо бы и мне такой прикупить…»
– А скажи-ка мне, мой спаситель, как тебя звать?
– Спиридоном кличут.
– Вот и хорошо! А меня зови Львом.
Бородач опять посмотрел на своего нежданного спутника, и от этого взгляда появилось ощущение странной лёгкости, словно они были знакомы давным-давно и оба рады этой случайной встрече.
– А сколько ж тебе, Спиридон, лет? Кажется, мы – ровесники.
– Дык, семьдесят девятый пошёл. Родом я от родителей ограниченного состояния, но богатых благочестием – так, кажись, говаривали прежде.
– Вот как! Молодцом выглядишь. Истинным молодцом!..
– Да какой уж из меня молодец?.. Раньше, по молодости, грудь колесом заворачивалась, а теперь, замечаю, спина стала круглиться…
– А не очень ли я тебя отвлекаю от дела? Если что, ты ступай, ступай… и спасибо тебе, старый солдат. А я тут не потеряюсь…
– Нет, что ты, что ты!.. Не при деле я пока. До вечера буду маяться… Одного знакомого надо бы повидать на вокзале, хоть издали на него взглянуть. Уезжает он…
– А что же так рано на вокзал пожаловал и почему непременно издали с ним повидаться? Не пойму я что-то…
– Дык, я-то его знаю хорошо, а он про меня – ни сном, ни духом…
– Вот как!.. Это интересно! Очень даже интересно!.. И кто же он?
– Писатель есть такой, граф Толстой. Может, слыхал?
– Ну, как же! Конечно, конечно… Даже читал, помнится…
– Вот и я его давненько читаю. Беру книжки в библиотеке и читаю.
Старик оживился и с лукавинкой всмотрелся в собеседника. Как-то глубоко и ласково прямо в душу глядел из-под густых нависших бровей влажными, с покрасневшими веками, но удивительными своей живостью проницательными глазами.
– Чтение – это всегда хорошо, это иногда интереснее, чем сама жизнь. Умное слово душе необходимо… Сделай милость, Спиридон, скажи мне, что ты в нём, в этом Толстом, нашёл такое, что заставляет читать?
– Наш он человек, этот граф… Когда ещё «Севастопольские рассказы» читал, это понял. Очень некрасиво он про войну написал.
– Некрасиво, говоришь… Отчего же ты так решил? – насторожился старец.
– А война, понятное дело, красивой и не бывает – сам её видел в молодые лета. Каждый день, бывало, смерть по пятам ходила, на ногу даже наступила однажды…
– А что ещё читал?
– Дык, всё читывал.
– Это интересно! Это очень интересно!..
– Вот и я говорю: очень даже всё у него интересно. Философия!..
– Думаю, никакая философия не даст нам ответа о смысле жизни. Мы – козявки ничтожные во времени и пространстве…
– Нет, мил человек, ты как хочешь, считай себя хоть блохой, а я не хочу быть козявкой. И не могу!.. – осерчал дед Спиридон. – Если человек живёт только для себя, если обманством богатство наживает, его можно отнести к козявкам. Мне человеком надобно остаться, иметь свой смысл, свою главную линию довести до конца…
– А вот это действительно важно. Не прав я, видимо!.. Прости, совсем не прав… Спасибо тебе, старый солдат – ты меня вразумил!.. И я себя козявочкой не хотел бы оценивать, потому-то и умирать пока совсем не хочу. Хочу многое успеть… Наверное, чем мы умнее, тем меньше понимаем смысл самой жизни и видим лишь злую насмешку в своих страданиях и не зрим ответа там где-то, за горизонтом собственной жизни.
А бессмыслицу во всём этом усматривать, наверное, грешно и глупо. Очень глупо!.. Смысл жизни не скрыт бессмысленностью существования. Цель самой жизни не пустая затея – она уже есть победа и оправдание нашего существования… Вот скажи мне на милость: ты счастливый человек?
– А когда как получится… И счастливцем бывать случалось. Минутка счастья иной раз целый день украшала. Как по жизни бывает? Счастье у каждого своё: кто чему научен, кто чем дорожит… И вор бывает счастлив. Стащит у зеваки кошель – тому и рад… Но по моему разумению счастливыми могут быть только вольные и полезные люди. Я вот с утра до вечера поработаю, прожиток себе да деткам обеспечу – тем и доволен. Когда работа по душе, это и есть моё счастье. Каждый счастливый человек прежде – добросовестный работник.
– Один мой знакомый сказал, что человек рождён для счастья, как птица для полёта.
– Что-то я крылатых людей не встречал. Да и мне в небесах пархать недосуг – трудиться надобно…
– Верно говоришь. Очень точно! Человек на земле работник, а всякое доброе дело –
для спасения души. От дела человеку всегда бывает радостно. Прежде надо сеять добро,
а уж потом пожинать плоды…
«Ох, не прост этот старик! Голова ума не просит, – думал дед Спиридон. – Если не доведётся повидать графа Толстого, так взамен буду помнить этого старца. Удивительный человек. Удивительный!.. И воистину странный какой-то…»
– Ну, что ж, пойду потихоньку к вагону. Дорога впереди долгая, отдохнуть надо бы…
– А куда ехать то? Далече ли?
– Далеко. Почти до самой Тулы.
– Ты, Лев, выздоравливай… Да поскорее!.. Нам с тобою на землице родной надобно ещё потрудиться. Нечего в земле-то лежебоками валяться – рано бездельничать!..
– Спасибо тебе, старый солдат!.. Вот я и надеюсь за плугом ещё походить. Люблю это дело!.. Устаю уже, но всё ж люблю. И тебя понимаю… Своя земля, она к себе зовёт.
– Это верно. Было дело, к двум крестам впридачу дали мне наградою землю в Ялте. Море близёхонько, участок не мал, не велик, но не смог стерпеть… Вроде и недалече от родных мест, а чую: корни отсыхают. Тоска одолела… Плюнул, продал землю и в Балаклаву возвернулся. Где дом мой когда-то стоял, – его англицкие супостаты на дрова пустили, – построил новый, просторней старого. А вот теперь с годами семья разрослась, надобность возникла отстроить ещё один дом.
Неспешно они дошли до перрона, остановились у одного из вагонов.
– Ну, прощай, Спиридон! Я рад нашему случайному знакомству. А, может, оно и не случайно вовсе. Даст Бог – пригодится мне…
– И мне Бог дал эту встречу. Вот если ещё графа Толстого увижу, так случится совсем всё хорошо.
– Кто знает, может, Бог тебе уже всё дал…
«Э-э-э,.. браток, – подумал дед Спиридон, – да ты, видимо, ещё и умом изрядно хвор!.. Худо дело… Совсем худо!.. Блаженный, однако… Думаешь, коль угораздило быть тёзкой самому графу, так и фамилию можно слямзить?! На своём веку я князьёв да графьёв всяческих видывал – у всех у них и бороды стрижены по-барски, и ручки холены… Князя Гагарина помню, графа Нарышкина… Да и сам Голицын последние годы не раз тут шастал по виноградникам…В таких портках никто, однако, не щеголял… А твоими ручищами волков можно давить… Ну, это дело такое: тут с пониманием надобно… Кто знает, может, и я через год-другой того… свихнусь, себя никак не меньше, а Нахимовым объявлю… На старости такое бывает… Чую: книжек всяких-разных поболе моего начитался. Видать, крутой перебор вышел. Большой ум – он иногда шибко вреден для простых мозгов…»
Посмотрел при этом сочувственно на странного старца и, жалеючи, посоветовал:
– Ты, того, Лёва… Я ничего такого не слышал, а ты всё ж про это самое… ну, сам понимаешь, никому – ни гу-гу! Даже не намекай!.. От большого ума, оно знаешь как?..
– Ну, хорошо, хорошо! Больше – никому и ни гу-гу!..
Широко улыбаясь, старец смотрел на деда Спиридона каким-то лукаво-весёлым и очень добрым взглядом, а во влажных глазах купались два бесёнка…
«Точно – блаженный, - подумал дед Спиридон. Жаль старика – выжился из ума… Оч-чень, очень жаль!..»





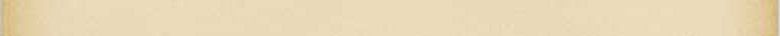

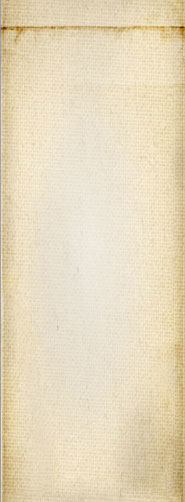

Комментарии
повезло,Желание сбылось,до него только не дошло,кого он
встретил.
Приглашаю Вас на мою страницу.