











4.
На подъездные пути ставили вагон с краснухой.
- Бугор! - позвал Ваську Шепелева проводник. - Иди распорядись, куда чего.
Это известие всех застало врасплох.
- Ну, Максимовна! - не сдержался Васька. - Не баба, а жаба.
Утром он, как обычно, заходил к дежурной по станции, справлялся насчет вагонов.
- Нет ничего, - сказала дежурная.
Лень было посмотреть как следует. А теперь - надо делиться на два звена, работы - прорва.
Васька поднялся с лавки.
- Сколько мест? - бросил он на ходу проводнику.
- Тыща с хвостом. Не так, чтобы очень.
Васька моментально прикинул. Двоих оставить на погрузке, остальных - на вагон. Поупираться, конечно, придется. Но - ничего, случалось и похуже.
Шепелев на базе был самым старшим по возрасту. Сороковник за плечами уже слегка тяжелил его шаг. Порой ломило крестец, но бригадир свято чтил первую заповедь грузчика: если что болит, лечись работой, вышибай клин клином. И он, казалось, не знал усталости, шутя бросал тяжеленные мешки с рисом на самую верхотуру стопы, в десятый ряд, «нахлобучивал шляпу».
Васька никогда не отлынивал и того же требовал от других. Его тяготила вечная нервотрепка, хотелось работать без суеты и спешки, без каждодневных пьянок.
Он устал от всего этого. Зашибал редко. Денег, заработанных честно, хватало с лихвой. Вот только мужества бороться с алкашеством и махинаторами-кладовщицами не хватало.
Однажды Сан-Саныч поинтересовался, какое у бригадира образование.
- Высшее, - пошутил Васька. - Закончил институт Воровского, факультет карманной тяги, замков и форточек.
В этой шутке была доля правды. Бугор отбарабанил свой срок давно, еще по малолетке. С тех пор утекло немало воды. На кривую дорожку Васька не вернулся. Но к тем, чья измочаленная судьба напоминала его судьбу, относился с сочувствием.
Наряды он закрывал нормально, никто не обижался. Качал права, если надо. В бухгалтерии его побаивались. Лентяев воспитывал самолично, словом, старался соблюсти справедливость в большом и малом, и за это его уважали. Но с каждым днем нарастало чувство досады. Ваську выводила из себя любая мелочь. Взять, к примеру, этот вагон. Он стоял у склада, но, конечно же, не совсем там, где надо. Метров двух-трех не дотянул машинист до дверей, а маневровый электровоз был уже далеко.
Сопливых вовремя целуют, подумал Васька. Придется самим толкать.
Бригада стекалась на эстакаду.
- Давайте решать, кто останется на погрузке, - сказал Шепелев.
Все молчали.
Вагон с краснотой - калым выгодный. Проводнику дается на бой с каждых ста ящиков по бутылке. Он никогда грузчиков в обиде не оставит, иначе те будут тянуть волынку. Даже если и грохнулся в пути ящик-другой, проводник все равно выкрутится. Воды - вдосталь. Отлил по чуть-чуть из десяти бутылок, плеснул туда ашдвао, пробочку нахлобучил аккуратненько - все в ажуре. Не станут же на базе каждую бутылку на экспертизу отправлять.
- Смелых нет, - сказал Босяк. - Сам решай.
Чувствовалось, что он уже принял малость для поправки здоровья, и теперь, ожидая новую инъекцию горячительного, ощущал прилив молодой энергии.
Васька окинул взглядом бригаду. В прошлый раз на вагоне Ганс с Босяком перебрали все мыслимые и немыслимые нормативы потребления спиртного. В результате вся тяжесть легла на самого бригадира и на Костынюка. Тянули жилы до глубокой ночи. А сейчас он такого не допустит.
Ему помог Костынюк.
- Ты балакал, Василий, с проводником? - спросил он. - Скильки он выделяет на нос?
И тут Шепелева осенило.
- Сейчас узнаю, - сказал он.
Проводник сразу же понял цель визита бригадира.
- Как обычно, - сообщил он. - По два пузыря каждому. Идет?
Васька нахмурился.
- Вот что, друг. Вина не надо. И чтобы излишков никто не видел. Скажу ребятам, что бой у тебя большой.
Проводник опешил:
- Постой, не врублюсь никак. Куда же я дену то, что вам причитается?
- Куда хочешь, - отрезал Шепелев. - А если увижу кого-нибудь из наших под мухой, буду с тобой по-другому базарить. Усек?
Проводник глядел на него, как на посланца внеземной цивилизации. Он так ничего и не понял, за исключением угрозы поговорить с ним по-свойски. Эта угроза была вполне реальной. И сразу возникла проблема: как избавиться от лишнего вина? Если б знал, что так повернется, продал бы в пути, как то, разбавленное. Придется толкнуть кладовщице, но она возьмет по дешевке.
Мучимый этой мыслью, проводник отправился к Алевтине, а Шепелев - к бригаде.
- Ну, что почем? - встретил бугра вопросом Ганс.
- А ничего, - весело сказал Васька. - Ничего не дает. Нет у него.
- Вот это номер! - присвистнул Босяк. - Такого еще не было.
- Рога ему отшибить, - высказался Ганс. - Мы его мигом отоварим. И сразу вино найдется.
Шепелев остановил его:
- У него несколько ящиков - всмятку.
- Эх-ма! - вздохнул Костынюк. Теперь, думал он, придется обедать без вина, вприглядку. З таком, как говорят на Украине.
Ганс швырнул бычок в ящик с песком:
- Мы с Босяком - пас. Мы не железные фраера, пусть они пашут. Мы лучше на складе.
Васька смотрел им вслед, почти торжествуя. Но к сладости победы примешивалась горчинка. Ведь он, по сути дела, просто схитрил. И все-таки, утешал себя Шепелев, лиха беда - начало. И с Алевтиной тоже разберется.
Бугор встал.
- Вперед, братва! - позвал он поредевшую бригаду. - Нас ждут великие дела.
5.
Проводник взвалил на плечо рюкзак, в котором специфически звякнуло, и Петя Гарин прикинул: бутылок десять, не меньше.
Фамилию проводника он не знал. Можно, конечно, заглянуть украдкой в накладную - она лежит у Альки на столе, но не стоит. ТАМ узнают, проблем нет. Главное - вагон разгружался во вторник.
На память ему не жаловаться: фиксирует автоматически, как скрытая телекамера. Что надо и что не надо.
В вагоне Петя приметил кислородную подушку. Здесь она неспроста. В такие емкости припасают воду. Без нее проводники как без рук. Вернуться из рейса с пустым карманом - все равно что наплевать себе в душу.
Если же по большому счету, то подушка да рюкзак с леваком - мелочи. Донесение будет на редкость лаконичным. Внизу, как обычно, его псевдоним - девичья фамилия матери. Она не обидится - ее давно уже нет в живых. А бумага с грифом «Секретно» пойдет по инстанциям, ляжет на столы больших чиновников. Правда, начинаться она будет уже не по-Петиному, а со слов «Источник сообщает...».
Да, он – «источник». Он глубоко законспирирован. Его знает в лицо только один человек из милицейского дома - старлей Ефимов. Они встречаются в определенное время. Чаще всего в сквере, но место явки периодически меняется. Все, как в шпионских романах.
Старлей, конечно, в гражданке. У него тоже память натренирована. Он ничего не протоколирует. Поговорят минут пяток, получит Петя новые инструкции - вот и все контакты. От «источника» требуются только зоркие глаза да чуткие уши.
Гарин превратился в «источника» добровольно, безо всякого принуждения.
Наверное, это никому не понять. Раньше стукачами становились либо сломленные изощренными пытками, либо из-за страсти к женщинам, к большим деньгам и красивым вещам.
Какие же мотивы владели им?
Так сразу и не ответишь.
Петя увенчал стопу последним, десятым по счету, ящиком и присел вместе со всеми перекурить. И вдруг заскребло под сердцем, замутило глаза слежавшимся, словно старая войлочная кошма, туманом. Прошлое сплошной стеной обступило его со всех сторон.
Три года назад он не думал, не гадал, что узнает изнанку жизни.
Петя вырос в интеллигентной семье. Отец занимал солидный пост, часто бывал в загранкомандировках. Каждое лето мальчика тщательно полоскали в черноморском рассоле, обрамленном сочной зеленью пальм. Репетитор прививал ему азы английской грамматики, служебная машина отца подвозила Петю прямо к школьному крыльцу, все давалось легко, без излишних затрат энергии, успех казался естественным и логичным. Но отсутствие жизненных тягот порождало некоторую дряблость характера.
Поступил он в институт инженеров железнодорожного транспорта. К этому времени неожиданно умерла мать, а у отца начались нелады на службе. Должности, которые он занимал, были уже не столь престижными, все меньше перепадало пряников привилегий.
Отец сражался за место под солнцем с яростью раненого гладиатора, окруженного со всех сторон римскими легионерами, но Фортуна от него отвернулась. Комиссия, которую возглавил некто Седых, пришла к выводу, что Петин родитель виноват во всех смертных грехах и даже сверх того. Отцу влепили строгача и сняли с работы, но он, в свою очередь, катнул телегу на обидчиков.
Уже на более высоком уровне была создана новая комиссия по проверке деятельности первой. Теперь не поздоровилось Седых. Из обкома партии его шуранули, но номенклатура не умирает потому, что никогда не умрет. Скоро Седых стал командовать крупным заводом.
Петя мало в это вникал. Из-за этого, наверное, и попал в непонятку.
Среди сокурсников Петра был и сын Седых, Игорь.
- Держись от него подальше, - советовал отец. - Как бы чего не вышло. Батя твоего Игоря желчью изойдет, если не ответит мне пинком на подзатыльник.
Он как в воду глядел.
В одной группе с Петей учился Володя Зверьков. Был он типом довольно скользким, но в силу своей деликатности Петя мирился с его визитами. Сказать гостю, что его назойливость не нравится, стеснялся. И Володя нередко злоупотреблял доверием хозяина.
Жизненное кредо нового товарища постепенно вырисовывалось. Было оно примитивным: деньги, девочки, вино - одним словом, красивая, разгульная жизнь. Однако материальная база для осуществления этого кредо была у Володи слабоватой. Он не раз предлагал Петру, у которого карманные деньги хотя и водились, но не в избытке, поправить свои финансовые дела. Подозревая, что это чревато чем-то нехорошим, Петя дипломатично уводил разговор в другое русло; механизм внезапного обогащения был ему неизвестен.
Тут закончилась зимняя сессия. Успешную ее сдачу отмечали всей группой в кафе. Потом, взбудораженные спиртным, заглянули, чтобы выпить на посошок, к Игорю Седых, и Петя, не вняв предостережению отца, не стал отрываться от коллектива.
Игорь жил с родителями в шикарной четырехкомнатной квартире. Даже Петя, не знавший житейских неурядиц, был поражен, увидев супердорогой мебельный гарнитур, японскую видеотехнику и прочие атрибуты нескрываемого благополучия.
Через неделю Володя Зверьков заявился к Петру с баулом.
- Нельзя оставить на пару дней? - спросил он.
- А в чем, собственно, дело?
Володя замялся:
- Понимаешь, старик, с родителями поцапался. Собрал вещи и сказал: адью. Уезжаю, мол, на каникулы к деду. А сам хочу здесь покрутиться, дела есть. В общем, подробности после.
Он исчез, но осталась какая-то смутная тревога. Баул был дорогой, из кожи тонкой выделки, с затейливой фурнитурой. Таких в магазинах днем с огнем не найти. Разве что на барахолке. Впрочем, у кого-то из общих знакомых Петя видел похожий...
Внезапная догадка обожгла, как тугая струя щелочи. Он раскрыл баул, переворошил его содержимое: импортный женский джемпер, флакон французских духов «Диориссимо», золотые кольца, что-то свернутое рулоном. Это был предмет особой гордости семейства Седых - картина кисти художника-передвижника.
Дальше события развивались со стремительностью движения электронов в атомном ядре и с такой же хаотичностью. Петя еще не успел ничего осмыслить, как в дверь позвонили. Это были менты с понятыми. Баул изъяли, а Петра водворили в КПЗ.
Потянулись томительные дни. Доводы Петра никто не слушал. Володя Зверьков в своих показаниях выставлял подельника в роли паровоза - организатора и вдохновителя преступной группы, а сам отводил себе роль бездумного исполнителя.
Петя долго не мог понять, почему Володя его оговаривает. Совпадение ли это случайностей, или же арест - следствие происков отца Игоря Седых? Не он ли, будучи влиятельным человеком, оказывает давление на следователя, а тот, в свою очередь, на Володю Зверькова? Вопрос был трудным для Пети и тогда, неразрешим он и сейчас. Уж очень все подозрительно. Как-то неожиданно объявились свидетели, которые якобы видели собственными глазами, как один из преступников вылезал из открытого окна, а другой в это время стоял на стреме. Они и опознали Петю Гарина. Кроме того, на бауле обнаружились отпечатки его пальцев. Доказывай теперь, что ты - не слон.
А в камере была другая, не известная ему жизнь. Достоинство здесь ценилось дешевле носков или носового платка.
Ночами Петя силился уснуть, но не мог. Влажный, спрессованный из застоялого табачного дыма и испарений множества тел воздух застревал в легких. Казалось, даже время останавливалось.
В этом мире все было иначе. Мухоловы дрались в кровь из-за места поближе к параше, отрывали пойманным пленницам крылья и штабелевали аккуратными рядами в спичечные коробки, дабы отчитаться перед ворами-заправилами о проделанной за день работе. Труболеты со своими статьями за бродяжничество драили бетонный пол; петухов ради-для потехи поколачивали шустрики, проходившие кандидатский стаж на вора. Кто-то раскладывал пасьянс из домино, гадая на срок, кто-то раздербанивал лохов, отбирая у них приличные шмотки и вручая взамен обноски... Все, в общем, были при деле, за исключением Пети, который чувствовал себя чужаком.
Нет, к нему относились терпимо. Кто-то из местных лидеров когда-то занимался вместе с Петром самбо. Это было давно. Камерный волчара совершал уже третью ходку в тюрягу.
Его не доставали, но ненависть к этому сброду душила Петю. Он не мог дышать одним воздухом с синими от татуировок жуликами. Было унизительно мириться с их жестокими законами, но Петя понимал: протест, если он будет выражен открыто, сразу же подавят. Заповедь «Отойди от зла - и совершишь благо» тут не годилась. Со злом надо было бороться активно.
6.
Сан-Саныч сидел у себя в каморке, где едва вмещались четыре стула и стол, и смотрел в окно. Пейзаж этот видел он постоянно и настолько привык к нему, будто он стал неотъемлемой частью его самого.
Крыша склада представлялась директору базы шахматной доской, где потемневший от старости шифер перемежали светлые заплатки, наложенные кровельщиками взамен вконец обветшалых листов. Две трубы - слева и справа - своей формой напоминали ладьи, так что аналогия с шахматами была не случайной.
Шифер притягивал голубей, как трупный запах - мух. Голуби обосновались здесь с незапамятных времен, внося некоторое оживление в академический ладейный эндшпиль. Бесславные потомки лихих сизарей и турманов, ныне кормящиеся на помойке, мельтешили как пехотинцы-пешки, и их никчемная возня напоминала Сан-Санычу всю бесперспективность его деятельности. Как будто он разыгрывал с судьбою бесконечную партию с регулярным повторением ходов, не торопясь заключать перемирие.
Сан-Саныч вел войну сразу на четырех фронтах: с грузчиками, кладовщицами, собственной дочерью и директором торга. Такого напряжения сил не выдержала бы ни одна армия в мире, а он еще исхитрялся, сгруппировав резервы, переходить от глухой обороны к лобовым атакам, занимать вражеские бастионы, а потом снова отступать на исходные позиции.
Побоище с грузчиками не выявило, к сожалению, его полководческих талантов. Он увольнял одних, но вскоре принимал других, еще более горьких пьяниц, потому что трезвенники на базу упорно не шли. Принимать приходилось иной раз и по второму заходу - тех, кого однажды уже рассчитывал. В бригаде был постоянный недокомплект, машины разгружались с опозданием, а за простои надо платить.
Грузчики начинали гужевать с утра. Сан-Саныч пробовал отстранять их от работы, составлял соответствующие акты, но машины и железнодорожные вагоны простаивали еще дольше, кладовщицы ругались на чем свет стоит, и директору надо было решать: либо рвать на мелкие клочки собственную писанину, либо вербовать на разгрузку людей со стороны.
Унижаться и отменять свои решения для Сан-Саныча было равносильно катастрофе. Поступиться авторитетом он не мог. Нанимал калымщиков, платил им сверхурочные, а его за это клевали на каждой планерке в торге.
Тщетными оказались и попытки наладить связи с милицией. По-первости, с пылу, с жару, директор частенько вызывал по телефону спецмедслужбу. Бравые сержанты, не уступая грузчикам в ловкости, профессионально штабелевали отдыхающих от трудов праведных в фургоны, прочесывали окрестные кусты и удалялись с чувством исполненного долга. Но потом в отдел кадров одна за другой приходили выписки из протоколов, и на «пьяной» комиссии Сан-Санычу доставалось по первое число за то, что разваливает на базе всю воспитательную работу. В общем, получалось так: дубинка, которой размахивают, зажмурясь, иногда норовит долбануть и самого хозяина.
Надо отдать должное Сан-Санычу: к поражениям он относился стоически, все время пытался нарастить свою наступательную мощь, разрабатывал принципиально новые методы атаки. Но он не встречал никакой поддержки. Материальные стимулы на базе работали плохо. Грузчики были на сдельщине: сколько заработал - столько получил. За пьянку и другие грехи можно было лишить их премии, но им на эту двадцатку было начихать - больше в карты выиграют.
А что если платить не так? Если прогульщика посадить на голый тариф, а тому, кто работает лучше, дать надбавку?
К удивлению Сан-Саныча отдел труда и зарплаты, бухгалтерия - все как один - встретили его предложение в штыки. Он недоумевал: почему? Но вскоре понял: именно грузчики, которых постоянно лишали прогрессивки, давали торгу экономию фонда зарплаты. Именно благодаря им управленцы в конце года получали за эту экономию премиальные в размере оклада. Как же они будут жить, если деньги останутся в бригаде?
Война с кладовщицами шла пока без кровопролития. Сан-Саныч, конечно, догадывался, что они мухлюют, но концы в воду прятались умело. Внезапные ревизии были не такими уж внезапными, да и самих ревизоров на базе хорошо знали. На некоторые нарушения, которые они выявляли, директор торга попросту закрывал глаза: во-первых, мелочи, а, во-вторых, его за это тоже по головке не погладят. И кладовщицы, чувствуя покровительство вышестоящего начальства, откровенно посмеивались над Сан-Санычем и в отместку мелко пакостили ему, подзуживая завмагов и водителей кольцевых машин, которые жаловались на неурядицы на базе непосредственно директору торга.
Занимавший эту должность Василий Лукич, в меру упитанный и медлительный, говорил всегда ровно, холодно, сухо. Он имел устойчивые привычки и не хотел ничего менять. Сан-Саныч, наоборот, отличался угловатостью в движениях и прямотой в суждениях, был сравнительно молод, худ и подвижен - и как раз именно этим раздражал Василия Лукича. С высоты своего предпенсионного возраста тот видел в директоре базы потенциального претендента на свое кресло. Сан-Саныч всегда что-то изобретал, требовал каких-то перетурбаций - короче, был представителем другой формации руководителей, совершенно не похожим на придворную свиту директора торга.
И все же это не было борьбой прогресса с застоем. Василий Лукич понимал, что коренных изменений директор базы не предлагает, ограничивается только косметическим ремонтом фасада. И поэтому он был не опасен. Бояться надо тех, кто проявляет корысть или же роет под самый фундамент.
Сан-Саныч настаивал на реконструкции двух складов. Василий Лукич всегда с ним соглашался. Однако ничего не предпринимал. Не из-за того, что это было обременительно. Просто он любил подчеркнуть дистанцию между человеком из мягкого кресла и представителем более низкого номенклатурного звена. Когда люди чувствовали эту дистанцию, Василий Лукич испытывал тихое торжество.
Театром военных действий директора базы с собственной дочерью Наташей была его квартира. Девчонку обуял вещизм. Все, что блестит, привлекало ее, как сороку.
Сан-Саныч сверхдоходов не имел, да и жена, преждевременно увядшая на ниве просвещения, тоже приносила в дом сущие пустяки. Удовлетворить все растущие потребности дочери не представлялось возможным. Конфликт между поколениями приобретал чисто экономический характер.
Однажды Сан-Саныч ощутил, что выдохся, что силы уже на исходе, что всюду он терпит поражение за поражением. Ему еще нет и сорока, а выглядит как ископаемый птеродактиль. Он воюет один против всех, и стоит ли продолжать эту беспросветную борьбу, если победа так же недосягаема, как самая отдаленная галактика? Может быть, он, цепляющийся, как утопающий за соломинку, за такие понятия как долг, справедливость, бескорыстие, обречен на вымирание самой жизнью? Может быть, новое, прогрессивное - это как раз то, с чем он воюет?
Но если это так, то почему его противники действуют не в открытую, а методами партизанской войны? Почему они прячут свою личину? Нет, все дело в правде. В том измерении, где живут Алевтина и иже с ними, правды нет и не может быть, и поэтому его враги в конечном счете обречены на поражение. Победит тот, кто не скрывает своих намерений, и не важно, что он в меньшинстве...
Когда Сан-Саныч пришел к этому выводу, он неожиданно ощутил себя сильнее, чем прежде.
7.
Ганс обедать не пошел. Ближайшая столовка напоминала хлев. Нигде не найти более занюханной забегаловки. Самый популярный гарнир - керзуха. Уж ею-то на зоне он набил кишку на всю оставшуюся жизнь.
Он лежал на лавке в полном одиночестве. Рядом, в голенище старого резинового сапога, стоял пузырь с его дозой (Ганс растягивал удовольствие не в пример Босяку). Оставалось где-то со стакан, но это приводило его в уныние: до конца смены никаких перспектив.
Ганс закрыл глаза и его обволок сон: бетонный плац, краешек неба, по периметру - вышки с автоматчиками.
Этот сон посещает его постоянно. Волчий месяц - декабрь. Ветер раздает направо и налево ледяные оплеухи. Телагу просвистывает насквозь. Развод на работу.
Музыканты порой фальшивят, часто отплевываются - мундштуки труб примерзают к губам. Шаркая тупорылыми коцами (так на зоне называют ботинки) по шершавому насту, строем прут отряды. Скорей туда, где можно согреться в работе - пусть ей придается характер совершенной бессмыслицы. Бодро ковыляет в свою промерзлую холобуду отряд инвалидов. Шествие замыкает «моторизованная пехота» - безногие на тележках.
Убогая, выхолощенная жизнь! Жизнь, которая не подчиняется разумным законам, где нет торжества справедливости, где все: и хозяин, и рог отряда, и воровская сходка - все без исключения следят за тем, чтобы эта справедливость не восторжествовала.
Филиал Преисподней. Зона.
Этот сон томит Ганса с тех самых пор, как он откинулся. Вот раздаются глухие удары. Кого-то молотят в умывальнике.
- Садисты! - кричит шустрила Филька Матрос. - Сами бьют, а мне не дают. Подбери мослы, я его сейчас упакую.
Барак погружен в дрему. Но даже тот, кто проснулся, тихарится. Впрягаться небезопасно. Здесь, на задворках жизни, собственная беда делает людей безразличными к чужому горю.
Ганс силился проснуться, стряхнуть с себя клейкий, как липучка для мух, кошмар. Но он опутывал его цепкими паучьими лапами. Вот он, остриженный под нулевку, в синей засаленной робе, хлебает баланду. Если плеснуть это варево на собаку - наверное, шерсть облезет. Вот он несет за пазухой пайку волглого хлеба, раздевается, валится скошенным снопом на шконку с одной лишь мыслью: хотя б на час, на один только сон забыть этот нереальный и такой реальный мир, эту жизнь без ничего, грязный сырой барак, где ночами возятся крысы в продуктовой каптерке, где страх, выползая из стен, змеиным ядом просачивается в поры и кровь.
А вот уже - май, солнечная тыква выглядывает из-за колючки. Ганса будто бы перевели в отряд к мастевым, и он сидит возле барака, скинув стоптанные бахилы. Пятна незаживающих язв величиной с пятак покрывают голень. Изуродованные непроходящими фонарями скулы бугрятся, как у старика.
Он давно уже забыл, как все это случилось, и теперь безропотно подчиняется любой подавляющей его силе. Она материализуется в плоском, как у олигофрена, лице Фильки Матроса. Кулак размером с пудовую гирю вырастает перед его, Ганса, выпученными зенками.
- Мочу наглухо, - угрюмо говорит Филька и медленно замахивается...
- Не надо! - во всю глотку крикнул Ганс и проснулся.
Мандраж сотрясал все его тело. Он жил все еще не здесь. Его мутило, и он, лихорадочно выхватив из сапога красноту, приложился к горлышку.
Вино растворяло страх, но не убивало его насовсем. Этот страх был сильнее самой крепкой самогонки. Он всегда возвращался. И потом: страх был неосознанным. Ганс не знал, чего он боится. Возможно, даже не зоны, где действительно было страшно. Скорее - той минуты, когда вино перестанет быть лекарством. Он просто тушевался перед текущим временем, перед действительностью, и уходил от нее, прячась в свой страх, прикрываясь им, как щитом, рассчитывая, что его пожалеют. Но так поступают все, кто прикидывается обиженным, кто располагает теми же возможностями, что и остальные, но не хочет ими воспользоваться.
- Ты, подлая гнида! - сказал Ганс обмелевшей посудине.
Из-за этой подлой гниды он и залетел.
Ганс служил в Германии, за что впоследствии и получил свою кличку. Дембиль отмечал в поезде. Как добрался в Москву, помнил туманно.
Ему надо было до Новосибирска, но он не торопился. Истосковавшись по вольной, неказарменной жизни, Ганс хлебнул воздуха свободы и опьянел еще больше.
Как лунатик, шел он по вечерним улицам, чисто выметенным, словно военная база к визиту маршала. С легкостью ночных мотыльков проносились мимо стайки девушек, спешили куда-то люди в возрасте, обтянутые джинсами, как молодые...
Он чувствовал себя чужим в этой суете. Город был равнодушным, холодным, заклепанным наглухо, как банковский сейф с кодирванным замком. И Ганс больше всего на свете захотел самоутвердиться, почувствовать себя ровней с детьми электронного века.
У входа в кафе толпилась молодежь. Девушки были в таких экономных юбках, что дальше некуда. За столом, за который уселся Ганс, дегустировали коньяк трое лохмарей. Чтобы не ударить в грязь лицом, он тоже заказал коньяк.
Молодые люди подозрительно посматривали на соседа. Но когда Ганс махнул фужер и сразу же закосел, успокоились.
Ганс набулькал еще коньяку.
- За ваше здоровье. Меня Анатолием зовут. Вот дембельнулся только что.
Язык молол Бог весть что.
Длинный, как лестница, сидевший справа, глянул на него с некоторым любопытством.
- Где служил? - поинтересовался он.
- Там, - Ганс неопределенно махнул рукой.
Но его поняли. Лестница виртуозно, как бармен, разлил коньяк. Завязался разговор. Вернее, говорил в основном Ганс. Его расспрашивали о ценах на тряпки, вообще на все. Ганс вдохновенно врал (в части, где он служил, увольнения давали крайне редко).
- А домой ничего не везешь? - спросил его маленький, горбоносый.
«Загоню маг, - подумал Ганс. - Черт с ним!». Ребята уж больно попались правильные. Накачивают коньяком, можно сказать, за красивые глаза.
Уже дубовый, повел он их на вокзал.
- Три сотни устроят? - спросил Лестница, повертев в руках импортный ящик.
При себе у ребят такой суммы не имелось. Поймали тачку, помчались куда-то по ночной Москве. А потом Ганс отключился.
Пришел он в себя в каком-то подвале. Дембильский мундир был изорван, глаз заплыл. Все руки - в ссадинах. Магнитофон испарился в неизвестном направлении, сумка - тоже. Денег - ни копья.
Ганс с грехом пополам выбрался из подвала. Внутри у него все кипело. Моросящий дождик не мог остудить эту ярость. Столица была не только холодной, но и агрессивной, безжалостной. То, что случилось с Гансом, волновало ее не больше, чем судьба таракана, попавшего под асфальтовый каток.
Офонаряя затекшим глазом улицу, Ганс шел, сам не зная куда. Неожиданно кто-то тронул его за плечо. Усатый сержантик в необмятой еще милицейской форме внимательно оглядывал его разорванный китель.
- Па-прошу ваши документы, - козырнул он.
- А пошел бы ты, - хрипло сказал Ганс. Он собирался уточнить, куда именно, но в это время сержант цепко ухватил его за рукав.
- Убери клешню! - повысил голос Ганс.
Блюститель порядка хотел заломить ему руку, но Ганс вывернулся и приварил с правой. Новенькая фуражка упала на тротуар, и Ганс наподдал ее ногой.
Кто-то схватил его сзади. Ганс уже не помнил себя. Стряхнув нападавшего, ударил его, а потом - еще и еще...
Когда его втискивали в воронок, он успел увидеть на мостовой чье-то тело, склонившегося над ним врача и бурое пятно, расползающееся на гладкой брусчатке.





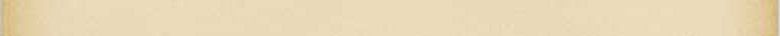

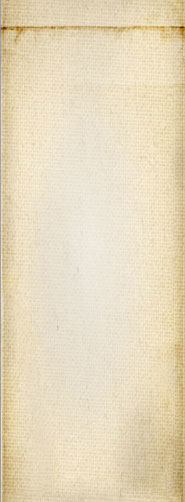

Новые комментарии