











20.
У Наташи кончалась практика. Она маялась от безделья. День был летний, нескончаемый. Листья, набрякшие солнечным теплом, шептали о чем-то таинственном, вечном.
Все хорошо, но саднила какая-то ранка.
Наверное, это из-за вчерашнего разговора.
Она пришла, как всегда, поздновато. Отец злился, когда она задерживалась.
- Где ты была? - спросил он строго.
- У подруги, - голос Наташи был полон невозмутимости. - Музыку слушали.
- Ты хоть бы мать пожалела. Она каждый раз волнуется. Я уж о себе не говорю. Неужели не могла позвонить?
- А у подруги нет телефона.
- Позвонила бы из автомата.
- Там поблизости в будках все трубки оторваны.
- У тебя всегда найдется отговорка, - заметил отец.
Сейчас заведет свой граммофон, подумала Наташа. «Вот мы в твоем возрасте...». И как самому не надоест?
- Вот мы в твоем возрасте, - начал родитель, и лицо его приняло благостное выражение: каждого человека умиляют воспоминания о собственной юности.
- Знаю, знаю, - прервала его Наташа. - Ходили в керзачах, в ватниках, колоски собирали. А мы - другие, понимаешь, другие. Мы не хотим керзачей, нам нужны дубленки. Мы хотим быть красивыми и счастливыми. Но почему мы должны страдать, если родители не могут обеспечить нас даже самым необходимым? Зачем же вы тогда заводили детей, если ваши любимые чада ходят в обносках? Да еще срываете на нас злость.
- А ты не права, Наташа, - неожиданно спокойно сказал отец. - Вы, молодые, слишком торопитесь.
- На кой ляд мне нужны будут эти шмотки, когда я стану старой грымзой?
- Не все золото, что блестит. Дороже всего - ум. Вы совсем забыли о нем, гоняясь за красивой мишурой. Нельзя же ведь превратить квартиру в склад. Каждая покупка должна стать праздником.
...Она присела на лавочку. Нет, никто никому ничего не доказал. Они просто не понимают друг друга. Как слепой и глухонемой.
Вверху беспечно щебетали глупые синицы. Шаркал метлой дворник. Ни о чем не хотелось думать. Наташа сидела, закрыв глаза, и слушала лето.
Дворник ее не заинтересовал. Но тут появился парень в кроссовках. Он шел пружинисто, легко. Спортсмен, не иначе. Но не футболист - у тех всегда ноги колесом. Пловец или волейболист.
Напротив, в будке, часовщик, вооруженный пинцетом, колдовал над доисторическим будильником. Наташа вспомнила, что ее часы стали отставать.
Она сняла их с руки, подошла к окошечку.
- Посмотрите, пожалуйста.
Часовщик отколупнул заднюю крышку, потрогал какую-то деталь и сказал:
- Приходите минут через двадцать.
И почему-то уставился на нее, как шизик.
Наташа снова уселась на исцарапанную ножом скамейку. Но даже спиной чувствовала: шизик продолжает ее разглядывать. Интересно, какого рожна ему надо? Сказать, чтобы полечился? Или уйти?
Но она почему-то не уходила. Так на нее еще никто не смотрел.
Через полчаса она снова подошла к окошечку.
- Придется еще подождать, - сказал часовщик. - Можете у меня.
Наташа села на колченогий табурет, осмотрелась. Стены были увешаны часами. Воздух наполняло разноголосое тиканье.
Хозяин будки улыбнулся. Улыбка у него была по-детски теплой. И в этот момент, словно специально, маленькие гномики зазвонили в крохотные колокольца, старинные часы сыграли хитроумную мелодию.
- Это швейцарские, марки «Зентра», - пояснил часовщик. - Корпел над ними долго, и все-таки они пошли.
- А вы, оказывается, похвальбунчик, - хотела пошутить Наташа, но шутка не удалась. Парень надулся, как мышь на крупу.
Наташа пожалела, что допустила бестактность и, исправляя ее, показала на часы-луковицу, лежавшие на столе:
- А это какой фирмы?
- Название, к сожалению, сбито. Часам лет сто. Мне их ребятишки принесли - нашли на чердаке. Храню как уникальный экспонат. Но у меня есть еще любопытнее.
Часовщик сдвинул в сторону кусочек замши, баночку из-под вазелина с оливковым маслом и разложил на столе свои сокровища.
- Это часы фирмы «Локле», - сказал он, передавая Наташе машину начала двадцатого века. - Обратите внимание на заднюю крышку.
Наташа невольно ахнула: какая красота! Кто так мастерски сумел изобразить гарцующую лошадь?
Одна за другой диковинные поделки старых мастеров перекочевывали в руки Наташи. Были тут и дореволюционные российские ходунцы, и английские часы «Тоббиас», где гравировка сделана даже на деталях механизма (видимо, хозяин очень боялся за их сохранность), и знаменитой швейцарской фирмы «Павел Буре»...
Особенно запомнились ей часы в цилиндрическом темно-бордовом футляре. Белые, словно чайки, яхты-стрелки скользили по бирюзовой глади циферблатного моря, путешествуя между островами с зелеными пальмами-цифрами.
Потом она смотрела, как, вооружившись отверткой и пинцетом, часовщик оперирует ее «Луч», как резиновой грушей сдувает какие-то мельчайшие пылинки с крутящихся зубчатых шестеренок, как рассверливает отверстие, диаметр которого тоньше человеческого волоса. И все это он делал красиво и ловко, как подобает настоящему мастеру.
Он вручил Наташе часы. Они показывали точное московское время и тикали как-то по-другому, человечнее, что ли. Словно парень вмонтировал в них частичку своего сердца.
- У меня сейчас обед, - сказал часовщик. - Я тут рядышком живу. Может, попьем чайку?
И Наташа, как дрессированный зверек, пошла за ним - неизвестно куда, даже не спросив, как зовут ее нового знакомого.
Они поднялись на пятый этаж и вошли в комнатушку размером с носовой платок. У окна стояла железная кровать с латунными шарами, наверное, еще из позапрошлого века. На подоконнике - настольная лампа. На стенах, как и в будке, висели часы, а на полу, на столе - повсюду были навалены книги.
- Меня зовут Андрей, - представился парень, ставя на краешек стола закопченный чайник. - Живу один. Родители далеко.
Голова у Наташи была легкой, как летнее облако. Она пила чай из эмалированной кружки, и ей было тепло и уютно.
- Я рад, что экскурсия в мир часов вас увлекла, - сказал Андрей. - Но это - только малая часть.
- Ты учишься на физика? - догадалась Наташа.
- На астрофизика, - поправил ее Андрей. - И больше всего меня занимает вектор времени. Это такая фантастика, что дух захватывает.
- Ну а все же? - настаивала Наташа.
- Вот только одна из гипотез. Ее автор не физик, а математик, фамилия его Гёдель. Он утверждает, что при некоторых условиях наша Вселенная, развиваясь, может возвратиться к своему исходному состоянию, а потом все повторится, как уже было. У вас не возникало, Наташа, такого ощущения, что вы уже когда-то жили?
- Случалось, конечно.
- У меня тоже. А Гёдель прямо говорит: через много-много лет снова сложится атом к атому, и мы будем сидеть с вами и пить чай, как сейчас. Только, скорее всего, о предыдущей встрече даже не вспомним.
- А у меня такое ощущение, будто мы уже встречались, - сказала Наташа. - Примерно сто или двести миллионов лет назад. И тогда вы, Андрей, тоже развивали эту гипотезу.
- Дело в том, что я Гёделя опровергаю, - помрачнел Андрей. - Уж больно идеальные условия нужны для осуществления его идеи. Сейчас меня больше занимает неравномерность времени.
- Как это? - не поняла Наташа.
- Смотрите, - Андрей перевернул будильник вверх ногами. - Который час теперь?
Наташа растерялась, но ненадолго:
- Ну, если по-нормальному, то - второй, а так - скоро восемь. Но что это значит?
- То, что мы с вами оказались в другой области Вселенной. Согласно общей теории относительности, там, где сконцентрированы большие массы, темп времени замедляется. Ежели Вселенная вращается, единая одновременность вообще отстутствует. А я хочу доказать, что и на Земле река времени течет неодинаково. К примеру, крупные государственные образования обречены на застой. Он наступает рано или поздно.
- Я, возможно, утрирую, - продолжал Андрей, - но связь между тем, в каком времени живет человек, с его активностью - самая прямая. Мне кажется, тот, чьи часы отстают, является носителем зла, способен на немотивированную жестокость.
Они проговорили весь обеденный перерыв. Андрей рассказывал о себе, и Наташа по-хорошему позавидовала этому парню, у которого была высокая цель. Он смело прокладывал путь среди рифов и скал своего непонятного века, не обращая внимания на то, что так привлекало ее, Наташу, и она, впервые за всю свою короткую жизнь, подумала: истинная ценность вещей порой не совпадает с той цифрой, что обозначена на этикетке.
... Домой она пришла необычно рано. Отец стоял в прихожей с сапожной щеткой в одной руке и ботинком в другой. Милое, родное, обеспокоенное лицо... Волна позабытой нежности захлестнула ее. Неожиданно Наташа прижалась к отцу, и, как в детстве, потерлась носом о наждак его подбородка.
21.
Ганс на все вопросы Тяна отвечал отрицательно: не видел, не слышал, не знаю. Что может сказать о Сипягиной? Ничего плохого. Покупал ли у нее вино? Нет, никогда.
Он почему-то снова ощутил страх. Как будто все нахлынуло опять - все то, чего он боялся. Как будто каждый шаг, какой бы он ни сделал, приближает его к пропасти. Зона вновь раскрывала свои колючие объятия.
Ганс много раз задумывался, почему его затягивает туда, как магнитом. Это не зависело от него всецело. Все дело в ней, в Зоне. Потому что она не исправляет, а только вгоняет в сердце, как воровское перо, страх и отчаяние. Он обречен, как высохшее дерево в лесу, предназначенное для санитарной рубки.
Это она, Зона, вытравила в нем все, словно серной кислотой. Все человеческие чувства. Он уже не может начать жизнь с начала. Он ничему не верит. Для чего же надо было доводить его до такого состояния? Еще тогда, лет шесть назад, можно было все исправить. Дали бы вышку - и все, с концами. А сейчас... Сейчас Ганс не понимает мир вокруг него - точно так же, как окружающий мир не понимает его. Ганс как бы застрял в том потерянном шестилетии, и теперь мстит направо и налево за свою исковерканную жизнь. И будет мстить до конца.
А если бы Зона была другой? Если бы там существовала справедливость, а не блатные законы? Что было бы тогда?
Ганс представил себе такую идеальную Зону - сплошные ряды карцеров. Не может быть справедливости, когда преступники в куче. Самое страшное наказание - одиночество. Только оно лечит от ненависти. Но сколько же нужно в этом случае одиночек?
Ганс вышел от следователей, слегка пошатываясь, как после трехдневной пьянки.
- Врезать хочу - сил нет, - сказал он Босяку.
- Сам страдаю.
- Вчера в парфюмерный фанфурики завезли, - вспомнил Ганс. - Может, смотаешь?
- А если грузить?
- Скажу, что понос прошиб.
Босяк появился минут через двадцать.
- Там одна «Фиалка», - должил он. - Взял четыре флакона.
Пока пили, заедая сахарным песком, первые две чеплыжки, обэхээсники навострили лыжи. Потихоньку расползлась и бригада. До прихода Михалыча Ганс с Босяком успели приговорить остальное. Запах одеколона, смешиваясь с табачным дымом, заполнил кондейку.
- Может, сгоношимся еще? - предложил Ганс.
- А где монеты?
- Надо хохла потрясти.
- Ты знаешь, где он живет?
Босяк кивнул. Он однажды помогал Костынюку перевезти шифоньер. Выпили наскорях: хохол выставил бутылку «Стрелецкой». Даже тут сэкономил!
- Ты же ему до завтра срок назначил.
- А мы с него пока что стребуем на пузырь, ну, может, на два. И махнем к цыганам - у них в любое время отовариться можно.
22.
Тян вызвал Алевтину в горотдел. План допроса был давно готов, но он, как правило, не заглядывает в шпаргалку. Часто все проворачивалось по-другому.
По стуку в дверь Тян пробовал определять характер и душевное состояние посетителя. Порой это удавалось. Робкой прерывистой дробью барабанят обычно осторожные, изворотливые; тихие одиночные удары - пришел осознавший свою вину человек (как правило, он оформляет явку с повинной); уверенные в себе любят громкость. Ну, а наглецы, которые отрицают даже очевидные факты, - те вообще открывают дверь нараспашку. Молча.
Алевтина постучала нестандартно: сперва осторожно, как бы пробуя крепость косяка, а потом - громко, отчетливо.
- Войдите, - сказал Тян.
Алевтина поздоровалась, села, куда ей указали. Ни тени волнения на лице, здоровый румянец на щеках, и только в глазах - застывшая настороженность.
- Что вы можете сказать по существу дела? - спросил Тян.
- А какое дело? - спросила Алевтина. - Никакого дела и нет, так, чепуха одна. Раздуваете из мухи слона.
- Давайте поконкретней.
- А зачем мне не в свои сани садиться? Это ваша, а не моя забота - гоняться за жуликами по чердакам и подвалам. Вот и ловите, доказывайте, что они сняли с бельевой веревки чей-то бюстгальтер.
Тян проглотил пилюлю, не моргнув: ничто не могло нарушить его спокойствия и уверенности в себе.
- Наш мир действительно пока еще далек от идеала, - сказал он. - Но это вовсе не значит, что можно вытворять все, что заблагорассудится.
- И очень жаль, - на лету подхватила Алевтина. - Милиция, как бульдозер: сгребет снег в кучу, глядишь - опять белым-бело, сугробы - выше носа...
Разговор умело переводился в другою плоскость.
Тян еще раз попытался настроиться на нужный тон:
- Я вызвал вас не для диспута. Давайте лучше поговорим о вашей деятельности.
- Что-то вы ко мне неровно дышите, - сказала Алевтина с ехидцей. - Все обо мне, да обо мне. А я - человек скромный...
- Скромный человек не станет заниматься спекуляцией, - заметил Тян.
- А что вы называете спекуляцией? - с улыбкой гюрзы спросила Алевтина.
- Мало того, что вы продавали вино со склада, вы еще и завышали цену.
- Ну, это надо доказать. А потом, если по справедливости, разве я у государства что-нибудь украла? Зато меня государство может безнаказанно грабить. Сколько оно платит? А сколько отбирает? Налоги, чистый воздух, здоровье...
- Те налоги, которые государство взимает с граждан, законны, - сказал Тян, делая нажим на последнем слове. - А вы, Алевтина Васильевна, закон преступили.
- Вам закон - как икона. Молитесь на него, перекладываете бумажки из одной папки в другую, а жизни не знаете. Вот скажите: это законно, если пришел вагон с диетическим яйцом, а это яйцо надо продать за два дня? Я принимать вагон отказалась. А мне звонит директор торга: принимайте. Ну и что в итоге? Торг в убытке. Ищут козла отпущения. И нашли: Алевтину Васильевну. Бах - и премией по карману.
- Вы могли обжаловать этот приказ. Но речь-то у нас идет о другом.
Алевтина уже утратила трезвость анализа. Обида на весь мир выплескивалась из нее, как раскаленная лава из кратера вулкана.
- Ладно, допустим, я продала это несчастное вино, - сказала она. - Но ведь кто подтвердит? Все молчать будут: шла-то я навстречу пожеланиям трудящихся.
Тян взял со стола несколько исписанных листов:
- Вот, ознакомьтесь с показаниями некоторых, как вы выражаетесь, трудящихся.
Алевтина как бы нехотя стала читать. Отложила один протокол, второй, третий... Лицо ее побледнело. Удар оказался такой силы, что сразу же, как подгнившая стена, рухнула уверенность в себе, в двух шагах четко обозначилась разверстая пропасть.
«Все! - пронеслась мысль, короткая, как разряд тока. - Как же она опростоволосилась с этими грузчиками! Куда она смотрела? Где допустила оплошность?».
Ответы на эти вопросы надо будет искать долгими тюремными ночами.
23.
Алевтина ушла, но Тян почему-то не чувствовал себя полководцем, принявшим капитуляцию поверженного врага.
Он не мог понять причины тревоги. Он выиграл партию. Он выигрывает всегда, умело заманивает в психологические ловушки - никто еще не смог обойти расставленные им капканы.
И все-таки было такое ощущение, будто он сам угодил в волчью яму.
Он живет в мире, нашпигованном жестокостью. Этот мир пестр, как осенний лес. Кого тут только ни встретишь: казнокрады и взяточники, грабители и насильники, карманные воры и спекулянты... А тут еще подрастает новое поколение возмутителей общественного спокойствия...
Кто эти люди? Почему их становится все больше и больше? Может быть, метастазы пронизали уже весь организм общества, и оно обречено?
Тян - из тех, кто вооружен скальпелем. Он удаляет злокачественные опухоли. Но неужели нет другого метода лечения, кроме операции? Неужели для того, чтобы избавить человека от порочных наклонностей, надо обязательно избавлять его от свободы?
Тян вдруг явственно осознал какую-то нестыковку того, что творится вокруг. Как будто причины и следствия поменялись местами, а он по-прежнему живет в изолированном наглухо мире, отгородившись от реальности бетонным забором догм.
Сколько слышал он слов о том, что Закон справедлив для каждого! Но разве сладкоголосый хор не пел дифирамбы вождям, не твердил на все лады о их гениальности? Мы нашли в себе мужество назвать это ложью, а когда речь заходит о Законе, стыдливо отмалчиваемся. Разве многие его параграфы не выдуманы под мудрым руководством тех же самых вождей? Где гарантии, что эти параграфы справедливы?
Тян подошел к окну, раздвинул шторы. Бесформенная, как облако, мысль приобретала стройность, законченность. Беда нашего общества в том, что мы не поспеваем за стремительностью изменений.
Прозрачная ясность этой мысли была сродни незамутненности родника. Надо бороться с тем, что порождает нищую старость и реки, отравленные пестицидами, тревогу за день завтрашний. Только тогда Закон станет милосердным и честным.
24.
Костынюк расправлялся с тощим куренком, с хрустом разгрызая хрящи. В этот момент кто-то позвонил.
Хто це может быти, подумал хохол. Жинка - в другую змину. Детей-немовлят на неделю спихнули теще...
Он не спешил прерывать вечерю. Даже если рухнет потолок, он сначала выскребет миску, поковыряет в зубах, а уже потом только будет взывать о помощи.
Позвонили настойчивей.
Костынюк вытер жирные пальцы посуденным рушником, и, шаркая шлепанцами, пошел открывать.
На лестничной клетке стоял Босяк.
Прежде всего Костынюк пожалел, что не врезал глазок: побачил бы - не открыл ни под яким соусом. А теперь - поезд ушел.
- Есть базар, - сказал Босяк. - Выйди на шесть секунд.
- Чого треба?
- Выйдешь - перетрем.
Костынюк понимал: не спустишься - звонить будут до утра. Мертвого поднимут. А телефона нет, милицию не вызвать. И он пошел за Босяком.
В беседке, где в добрые старые времена резвились козлятники, сидел Ганс.
- Я передумал, - сказал он, когда Костынюк припечатал свой зад к скамейке. - Гони литруху, а остаток - завтра.
- Нема ничого, - замахал руками хохол. И решил сказать правду: - Следователь про гроши знает. Вин кажет: сдай в отдел.
Он говорил и знал теперь уже зная наверняка: драки не миновать. Хоть бы хтось из соседей вышел. Дуже страхитливо. Но двор был пустыней - только бездомная собака сосредоточенно испражнялась в песочнице.
- Откуда же следак знает про деньги? - спросил Ганс. Лицо его побагровело, глаза налились кровью. - Похоже, ты, композитор, оперу пишешь.
Слово «композитор» на блатном языке означало: стукач. То есть тот, кто строчит доносы оперуполномоченному, оперу.
- Ничого я не балакал, - оправдывался Костынюк. - Вин сам знает.
- Ты мне спагетти на уши не вешай. Сейчас настучим маленько - сразу расколешься. Чего буркалы вылупил?
В животе у Костынюка противно заурчало. Який недотепный вечер!
- Чому лайкой заниматься, хлопцы, - сказал он наконец. - Гроши отдавать ментам все равно треба. А горилки нема.
Голос у Костынюка был такой же рыжий, как он сам.
- Ну, раз такой поворот, - сказал Ганс, - тогда хрусты отдашь нам. А следаку скажешь, что щипачи в автобусе вытащили.
И тут Костынюк словно проснулся. Коли я вырублю Ганса с першей колотушки, Босяк не рыпнется, подумал он. И зразу - Обрыв Петрович, тикай, Гриня. Дыхалка у него ништяк - не догонят.
- Погодь хвилину, - сказал он вслух, и его глаза-пуговички блеснули решимостью. Он встал и со всей дури долбанул Ганса в челюсть.
От такого удара не поздоровилось бы и быку. Маховик хохла был размером с хорошую кувалду. Ганс сполз со скамейки. Но тут же пришел в себя, сплюнул кровь и увидел, что Костынюк сломя голову несется в направлении дома. Шлепанцы он потерял и дул в одних носках.
- Уходит ведь, вошь!- прохрипел Ганс Босяку. - Держи подонка!
Босяк метнулся за Костынюком. Он настиг его в самом конце двора и камнем упал в ноги. Оба крепко шмякнулись об асфальт.
Ганс бежал на подмогу, подбрав обрезок канализиционной трубы, валявшийся рядом с незасыпанной траншеей. Костынюк с Босяком барахтались, метеля друг друга. Ганс выбрал удобный момент и огрел хохла промеж хребтины. Костынюк перевернулся на бок, закрывая лицо руками.
Ганс уже не владел собой.
- Ублюдок! Козел! - выкрикивая ругательства, он занес железяку и махнул ей в тот момент, когда Босяк, ослепленный дракой, кинулся на хохла.
Удар пришелся в висок. Ноги Босяка конвульсивно дернулись. Изо рта хлестанула кровь. Костынюк, машинально почесывая спину, обалдело глядел на обмякшее тело.
Стало так тихо, что Ганс услышал, как, млея от июльской неги, листья ластятся один к другому, словно влюбленные после разлуки.
- Босяк, - позвал Ганс. - Слышишь, Босяк?
Но Босяк уже ничего не слышал. Ганс тормошил его безвольное тело и чувствовал какое-то внутреннее раскрепощение. Страх, который все время душил его цепкими когтистыми лапами, выветрился, исчез. Деревянный забор буквально на глазах превращался в ячеистую сетку запретки. Мелькнули сырые телаги с бирками на груди, чьи-то черные от чифира зубы...
Зона...
Она ждала его долго, как женщина, хранящая верность. И дождалась. Теперь он - навек ее. До гробовой доски.
А Костынюк, сгорбившись, как степной грызун-байбак, только теперь понял, что это он, а не Босяк, должен был лежать вот так неподвижно, неловко подвернув руку.
Его не мучил вопрос, за что ему была уготована такая участь. Он не догадывался, что был участником борьбы, в которой не обойтись без жертв, но борьба эта нелогична, а значит, жертвы случайны и ничем не оправданы.





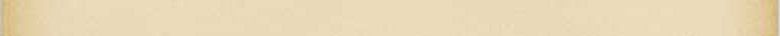

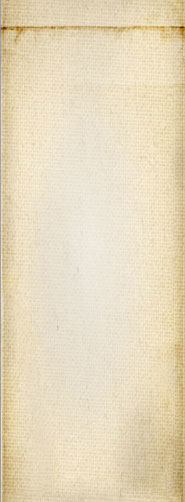

Новые комментарии