











Поэма
Опять сегодня снился скучный сон:
Мерцание полярного сиянья,
И рельса заунывный перезвон,
И толчея, пришпоренная бранью,
И «стройся», «по порядку разберись!»,
И грозный крик: «Внимание, колонна!»,
И по рядам обычное: «Заткнись!»,
И жало беспощадного жаргона.
Я соскочил с кровати и – к окну.
Фу, черт возьми, ведь это только снится,
Взглянул в окно и вижу: в вышину
Вспорхнула предрассветная зарница.
Как хорошо, что это только сон,
Глубоким сном встревоженная совесть…
Ей до сих пор мерещится тот звон
И прошлой жизни северная повесть.
Теперь она не завернет в тупик,
Но до сих пор дает мне позывные,
Чтоб я, хотя бы на единый миг,
Не позабыл в хмелю права земные.
Свернуло утро красные пеленки,
Как пуповину обрубило тень
И народился солнечный и звонкий
Младенец-великан – Рабочий День.
Я шел в столовку, щедрую, как соты.
Вольготно чувствует себя целинный люд:
Подначки, смех, соленые остроты
И ранний харч их колоритных блюд.
И прошлое мое уходит в небыль,
Его всем телом заслоняет мир.
«Иди, живи, глотай от пуза небо,-
Сказал мне веско рыжий бригадир. –
А совесть твой судья и твой начальник,
Спроси ее сначала, а потом,
Как говорят здесь, выдержит твой сальник,
Докажешь, кто ты есть, своим трудом.
Сегодня у меня свободный день,
Воскресные забавы и желанья,
Но я ступил на первую ступень
Высокой лестница самосознанья.
Здесь все выходят в поле на заре,
Работают весь день, а то с добавком,
И знают все, что в жизненной игре
Упорный труд – без проигрыша ставка.
Как бабочки, зелены листки
Под окнами домов кусты обсели.
Я, на душе не чувствуя тоски,
Шел твердым шагом, достигая цели.
Сегодня мной получены права,
Иду под песню собственного свиста,
А под ногами мечется трава,
Как будто чует поступь тракториста.
Шуми, трава, скули, трава!
Но я пришел навечно на твои просторы.
И, может, завтра же во все края
Лемех проложит черные проборы.
Быть может, завтра выведу коня
В сто лошадиных сил, а то и боле,
И все твои лихие зеленя
Переиначу в Золотое поле.
Итак, судьба у нового начала.
В глазах – рассвет, а на душе – весна.
Но в памяти моей еще звучала
Оборванная юности струна.
…Как хороши вы, сельские просторы,
Целебный воздух, сочные луга,
В который раз, не сосчитать в который,
Черемухой вскипала берега.
Шумели в небе сосны-исполины,
Менялся облик русского села,
А речка выше мельничной плотины
Себе как бы знакомых завела.
По вечерам, когда грустили птицы,
Она стелилась лунным серебром,
И розою цвели девичьи лица,
Для развлеченья собраны костром.
И пела полуночница-гармошка,
Захлебывались звонкие лады,
И лица, лица девичьи…Немножко -
И, кажется, недолго до беды.
Беда. Беда. Она с тобою рядом,
Ей от рожденья 18 лет –
Красивая, с лучистым синим взглядом,
Второй такой на свете, может, нет,
А запоет - и захлебнется сердце,
Притихнет опьяненная душа.
Заслушаешься, и тебе не верится,
Что девушка, как песня – хороша!
И часто говорили мне, неловко
Ребячью зависть в сердце затая:
«Ты от нее умом свихнешься, Вовка».
Но что на это мог ответить я?
Любил безумно. Что же здесь плохого?
Любить всем существом своей души
Мы рождены, и ласковое слово
Дурманит нас сильнее анаши.
Друг у меня был, Федька кареглазый,
Остряк и балагур, король села.
Его любили девки за проказы,
А взрослые любили за дела.
Он был первейший мастер на все руки
И прибаутки сыпать был мастак:
«Заказ давайте! Сделаю, от скуки,
И не за деньги, а за просто так».
Как велика душа его простая,
Я только мог завидовать ему:
Ну почему не дьявол верстака я,
Ну почему не мастер, почему?
Я б получал заказ на этажерки
От книголюбов, нашенских девчат…
Четыре ножки и квадрат фанерки
И за труды – признательности взгляд.
Но друг есть друг, поддержка и опора,
Когда тоской навалится беда,
Он явится к тебе без разговора
И отведет твою беду всегда.
А было так: весна пришла на дачу,
Рабочий люд, намаянный трудом,
Съезжался семьями и с кошками в придачу
В село, где у Берди стоял наш дом.
Но только тот, кто городом закован,
Поймет приволье русского села –
Тому здесь добрый отдых уготован,
Заслуженная ласка за дела.
Но, видно, черт принес на дачу Костю.
По выходе из городской тюрьмы,
Он затерялся в мире, и, как гостя,
Его со всеми привечали мы.
А был он на чужое очень падкий,
С разнузданной оравой ширмачей
Приглядывался ко всему с оглядкой
И часто пропадал во тьме ночей.
Сперва я верил Косте-пустозвону,
Наверно, за костюм «последний крик»…
Он трезв – спокоен, хоть пиши икону,
А в душу я залазить не привык.
Я никому еще не врал на свете,
Поэтому не верить я не мог,
А он все время расставляет сети
Своим умишком, лишь бы только впрок.
Выводит всех на ругань, водку хлещет.
И, как он появился, с этих пор
В селе частенько пропадали вещи,
Но говорят – не пойманный – не вор.
А он смеялся и на вечеринке
Подначивал, влюбленного, меня,
Мол, скоро неизбежные поминки
По мне сварганит вся моя родня.
Потом язвил мне, говорил: «Дяревня»
Сибирский увалень!»
Что я в искусстве – пень.
Мы шли, встречались пьяные деревья,
За нами пьяно волочилась тень.
Потом она мне жаловаться стала:
«Уйми его. Проходу не дает!»
Она уже изрядно похудала,
Не радуется, песни не поет.
А Федька, дьявол: «Что же ты – защита!
Или угасла пылкая любовь?» -
И все смеялся яро, ядовито,
Чтоб у меня с вином смешалась кровь!
Певучий ветер забегал в калитки,
Ерошил кудри молодым кустам,
Мы с Федькой неторопко, как улитки,
Бродили по знакомым нам местам.
«Нигде», обидчик словно в воду канул,
Но вскоре нам, к несчастью, повезло.
Мы повстречались. Костя яро глянул,
И в слове «здравствуй» закипело зло.
Не Костю, а меня в прокуратуре,
Меня! Перебирали по костям.
И, как в престольный праздник на бандуре,
На нервах мне играли люди там.
Терпи, душа, замри, душа, и вникни.
Здесь не вечерка, а «народный суд».
О, как меня отстаивал защитник –
Плевако местный без пяти минут.
Сидел судья, откормленный и важный,
Средь заседателей, не ласков и не строг,
Но он, как володетель душ бумажных,
Меня во всем обыгрывал, как мог.
Все задавал вопросы, был все строже.
И говорил его суровый взгляд:
Мол, я тебя, дружище, подытожу
Туда, где и Макар не пас телят.
Потом я смутно слушал прокурора,
Из слов его я понял, наконец,
Виновен я за избиенье вора,
Но главная причина – мой отец.
Но только нет, такие не сдаются,
И я готов поклясться за отца,
Он кровь пролил на раз за революцию
И верен ей остался до конца.
Любил семью и на полях России
Выращивал хлеба, косил траву.
Он был – НАРОД, чьи руки золотые
На всю планету славили Москву.
Но он погиб от подлого навета,
И на потомство пролилась вина.
Судьба! Ты прошнурована за это
И на года печатью скреплена.
Распорядился суд моей судьбою.
И вот я там, где телок не пасут.
Но се же у начальника конвоя
Есть на боку, на правом, - добрый кнут.
Узнал я это не по вольной воле.
И я, как бы назло себе, попал
Туда где были воры на престоле,
А как они живут еще не знал!
Я поселился в пребольшом бараке,
Забросил вещи на перину нар.
И - окружили как волка собаки:
«Откуда да за что?» - сплошной базар.
А мне в лицо затейливо раскрашен,
Плакат большими буквами орет:
«Здесь проживает тунеядец Яшин,
Который не работает, а жрет!»
А стол накрыт – чего здесь только нету.
Семейкой дружной «трудятся» воры:
«С вас, малый, сто,
Давай гони монету!»
Дошел до слуха эпилог игры.
Под тихий и напевный звон гитары
Стоит в бараке духота, тепло,
И целый день лишь тары-растабары,
И целый день играют зло назло.
«Ты не стесняйся, Вова, будь как дома!
У нас здесь не рабочий контингент!
Пошли, сыграем пару партий, Сема», -
Упрашивал лахудру Васька-кент.
Лахудра, он же вор ночной, - подросток
Сметал объедки кошкой со стола.
Она рвалась, но вырваться непросто,
Кусалась, но на помощь не звала!
Четыре года отцвели в неволе,
Четыре раза отрыдала мать,
Четыре раза ожидало поле,
Но мне не суждено его пахать.
Меня пленил еловый лес дремучий.
О вы! Смолой налитые стволы –
Виновники моих благополучий,
Соавторы нежданной похвалы.
А было очень трудно с непривычки,
Выматывал гулаговский паек,
Чуть-чуть не получил я «Дохлый» кличку,
Да замполит сказал мне: «Паренек,
Морально падать в жизни не годится,
Уж если провинился, значит, ты
Изволь-ка добросовестно трудиться,
А ты набедокурил и – в кусты».
Так я ушел из дикого шалмана
В рабочую бригаду лес валить.
Воры язвили: «Сдохнешь под баланом,
А день кантовки – это месяц жить!»
И день за днем, неделя за неделей,
В засоле пота, через не могу –
Я перенес, сочтя по каждой ели,
Почти что всю дремучую тайгу.
Я приходил с делянки, словно пьяный,
И лез на нары. «Ужинать будить?» -
Смеялся друг мой, Федька окаянный, -
Но был готов на нары подсадить.
Таких, как он, не убивает горе.
И смерть таких обходит стороной!
Он был всегда спокоен, даже в ссоре,
А в лагерь был заброшен он войной.
Я подружился с ним за имя друга.
Хлебали горе. И в который раз
Он о судьбе своей в часы досуга
Чистосердечный начинал рассказ:
«Ты знаешь, Вова, и везло мне в жизни,
Идет война! И мы несем урон.
Мне нужно выжить, именем отчизны,
В бою под Ригой правый фрикцион.
А я в пылу атаки тушенулся,
Ты понимаешь, вот галиматья!
Мой танк, как будто дьявол, развернулся –
Не правый, левый…левый выжал я.
Я спас бойцов, но до сих пор жалею,
Что не подох за рижские края.
Не танк в трясину плюхнулся по шею,
Ты понимаешь, друг, не танк, а я».
Он брал гармонь, и песни фронтовые
Меня вели в походы и бои,
Я засыпал, но псы сторожевые
Тревожили частенько сны мои.
Мы ели суп смешнее не придумать –
Последний зехер крупяной муры.
И нам навстречу шла тайга угрюмо,
И мы ее встречали в топоры.
Чем выше штабеля и шире поле,
Усыпанное пнями и золой,
Тем ты яснее ощущаешь волю
И ходишь с приподнятой головой.
И я уже ходил, как именинник,
Свобода ближе – сердцу веселей,
А солнце, словно новенький полтинник,
Сияло над Казбеком штабелей
Плодов труда, и радости, и муки.
Здесь мы с друзьями нашего звена
У мертвого медведя на поруки
Себе охотно взяли сосуна.
Он был такой пушистый и невинный,
Такой, что с маху занесен топор
Вцепился не в него, а в ствол осины,
И стал он тоже зэком с этих пор.
Еще не зверь своей душой и нравом,
Он был щенок, но только не медведь,
И мы его учили всей оравой –
Он делал все, не мог лишь только петь.
Бродил по лужам и лежал на сучьях,
Баланду ел со всеми наравне,
И, если удавалось мне при случае,
Я с ним боролся, сидя на бревне,
Смешным, смешным, еще не знавшим страха,
Он ласково смотрел в мои глаза.
Так ласково, что весь бригадный сахар
Я был ему не в силах отказать,
Он смачно ел, потом лизал мне руки,
Ходил среди бригады в полный рост.
Мы в перекурах с ним не знали скуки,
Зато на сахар был великий пост.
И лишь однажды он бродил понуро…
«С чего бы это?» - говорили мне.
«Наверное, взрослеет, видишь, шкура
Щетинится уже по всей спине»,
А он все рядом, трется мне об ногу.
Мою беду предчувствуя душой,
Скулил, а мы гадали всю дорогу,
Наверно, занедужил сын лесной.
Тайга была сырой, угрюмой, дикой.
В опавших листьях – перехлест корне.
Она меня манила голубикой;
От кочки к кочке я шагал по ней.
Заря волшебно заплетала тени,
С кустов и веток сыпалась роса,
Я шел сквозь дебри, ободрал колени,
Но шел и слушал птичьи голоса.
Я шел без ноши, тяжелели плечи,
Гудели ноги, как колокола.
И только сердцу становилось легче,
А за спиной как будто два крыла.
Я шел и на ходу срывал малину,
И, на ходу ее пихая в рот,
Зашел в зеленый лабиринт трясины…
Я шел через нее, как бегемот.
Куда? Зачем? Не знаю. Шел без страха.
Я шел, руками расчищая путь,
Все шел и шел, и смертью росомаха
Молниеносно бросилась на грудь.
Я заорал в изнеможенье дико,
В борьбе со смертью не хватало сил.
На крик тайга ответила лишь криком:
«Ты что орешь?» Но кто меня спросил?
Я спал одетым, как пришел с работы.
«Уже развод. Пожри хоть – вот еда».
Я ел и думал в обществе зевоты:
Приснится же такая ерунда.
На окнах роспись будущей зимы,
Как папоротник в инее и стуже.
В бараке шум, а ночь лавину тьмы
Ему на плечи бросила снаружи,
Но яркая рука электроламп
Вспорола ночь, прожектора секира,
Как тушу, разрубила пополам
Дневным трудом намаянных полмира.
Глухая ночь. Но чествуют меня
Вину не искупившие бродяги,
Жаргонными словечками звеня,
Еще не люди, но уже трудяги.
Я был растроганный до глубины души
Вниманием ребят моей бригады,
Когда они последние гроши
Собрать мне на дорогу были рады.
А Федька, дьявол, сущий дипломат,
Себя все время чувствовал как в танке:
«Ребята, знайте, Вовка не женат,
Но у него невеста на приманке.
Я видел фото, как кинозвезда
В короне кос, глазищи – во! А любит!
С такой красивой – жизнь одна беда.
В сто крат беда на вечеринке в клубе».
Но бригадир ему наперебой
Другую речь уже завел в упряжку:
«Нечистые, сплоченные судьбой,
Давай из тайника на волю бражку.
Обиоем тайно Божьего раба,
Который под бревном очистил душу.
Пример нам всем, друзья, его судьба,
Таких, как он, иметь бы сто по кушу».
Мы выпили за честь моей Фортуны,
И семь сердец, отбросив лень и сон,
Заныли, как натянутые струны,
Настроенные счастью в унисон.
Соломин Ваня, что за мною следом
Освобождаться должен, грудь – горой:
«Пусть Вовка, никому еще неведом,
На целину поедет, ой-е-ей!
Я представляю, это недалече,
Откинусь и войду к нему во двор,
Чтоб вынести его свинье в честь встречи
Последний в мире смертный приговор».
И – грянул смех. И бешеной гитары
Сжимался и рассыпался аккорд.
Мы пели, а вокруг храпели нары
Усталой сотней лесорубных морд.
Тайга шумела, и летела песня
На легких крыльях выходного дня,
Мечтой о воле поглощен был весь я,
Сидел на нарах, голову склоня.
О, как она легко входила в душу,
Как наполняла сердце красотой –
Сиди, мечтай, молчи, но только слушай
Ее напев и сложный и простой.
И, как ведется, в лагерном здесь мире
До воли месяц, значит, отдыхай,
Все тридцать дней. Живи, как на квартире,
Перед дорогой в свой родимый край.
Родимый край – и сердце затрепещет.
Родимый край – любимая, друзья…
Мечта спешит и собирает вещи,
Мечту уже остановить нельзя.
Я был на старте, ждал, как выстрел, день,
Когда мне в руки сунут обходную.
Раскрылась дверь, на пол упала тень,
Потом раздался крик напропалую:
«Володьку Гаврюшова…в кабинет…
Начальник вызывает…поскорее!»
Я вышел. Мне в лицо ударил свет,
И зашагал к конторе по аллее.
Меня начальник встретил у себя
Словами «отработал», «не обижен»,
Он чуть замялся, волос теребя:
«Ты что стоишь? Иди садись поближе.
Садись, садись! И знай, что скоро ты
Всем работягам на земле товарищ,
Вернешься и осуществишь мечты,
И в грязь лицом, я верю, не ударишь!»
«Да, постараюсь!»
«Вот и хорошо!
Теперь давай поговорим о деле,
Мне помнится, что твой земной грешок
Продлится здесь немного, три недели.
А это время! Году под конец!
Ты понимаешь, неустойка с планом,
А ты валить деревья первый спец,
Вдвойне плачу, Володя, чистоганом.
Я не приказываю, я прошу тебя.
Такие просьбы у меня не часты. –
Он вновь замялся, волос теребя, -
Пойдешь валить на воровской участок.
Там, брат, ну я скажу тебе, дубы,
Деревья – во! И не обхватят двое.
Ни окрика тебе, ни городьбы.
Пойдешь валить свободным, без конвоя.
Ну что же, по рукам?»
«Что ж, по рукам!
Но я с одним условием согласен.
В напарники возьму дружка. А нам
Вопрос о плане безусловно ясен…»
Как звери, пилы по лесу ревели.
Ель упадет, и враз зеленый взрыв,
А мне в лицо осколками летели
Кусочки сучьев и шматки коры.
И вот однажды, на второй делянке,
Мне встретилось знакомое лицо,
В глубоко нахлобученной ушанке,
И вспомнил я его в конце концов.
Вокруг ребята искренне потели
И под баланом выправляли жизнь.
Воры на сучьях у костра сидели,
Огонь пылал, взлетали искры ввысь.
Они сошлись за чашей разговора.
Сначала, не поверивши глазам,
Узнал я без осечки Костю-вора,
Наполеон по кличке был он там.
Я подошел к огню: «Привет, бродяги!»
«Прикуривай и смойся, лесоруб.
Коль не хотишь отведать доброй ваги», -
И стоэтажный мат сорвался с губ.
«Постой, постой, да мы с тобой знакомы, -
Вскочил Наполеон. – Не узнаешь!
Теперь не ты, а я, паскуда, дома».
И враз перед глазами вспыхнул нож.
Я страху не показываю спину,
Иду к врагу с поднятой головой,
Но здесь не я – инстинкт схватил дубину
Но нам на счастье подоспел конвой.
Мы зарычали, словно звери в клетке,
Я уходил, а он орал в тайгу:
«Всю жизнь работать будешь на таблетки,
Но все равно останешься в долгу!»
Я ночь не спал, и все мои тревоги
С рассветом троекратно возросли.
И пой и плачь – свобода на пороге,
И встреча с Костей на краю земли.
Ну что ж, судьба, и я в тебе не волен,
Что быть должно, того не обойдешь.
Я здесь узнал, что с вором съешь пуд соли,
Но все равно получишь в спину нож.
И чтобы навсегда избавить спину
От Костиной безжалостной руки,
Решил: сломаю об него дубину,
Пусть своему же счастью вопреки.
По щиколотку белого, как сахар,
С отливом синим снега намело,
И в судорогах у моего паха
Бензопила вздыхала тяжело.
С разбегу на снег падали опилки,
И снег желтел у ног со всех сторон.
Напарник мой, работавший на вилке,
Орал над ухом: «Вовка! Видишь, он!»
Беда всегда страшнее в приближенье,
И от нее во мне стояла дрожь,
Но я сосредоточился в движенье,
И – в снег упал его бессильный нож.
Он растянулся на снегу без шума,
Под веским словом доброго дрючка,
Дрючок сказался крепче, чем я думал,
Да и крепка была моя рука.
И день за днем, неделя за неделей,
В засоле пота, через не могу –
Я перенес, сочтя по каждой ели,
Почти что всю дремучую тайгу.
Так шел я к счастью темными лесами,
А через труд ко мне свобода шла,
И та, родная, с синими глазами,
Мне верила, любила и ждала.
Она мне тридцать лет писала: «Милый!
Как вспомню о тебе, берет озноб.
Одумайся, ты мать загнал в могилу,
Теперь меня ты забиваешь в гроб.
Одумайся!..»
…Весной в Целинограде
Я ждал ее, как узник ждет ответ,
Она явилась, с синевой во взгляде –
Второй такой на свете, может, нет…





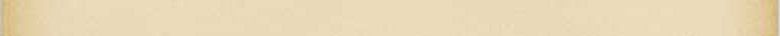

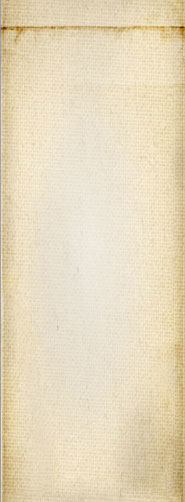

Новые комментарии